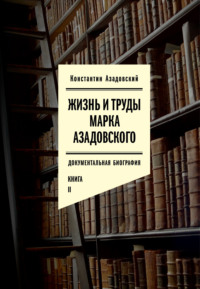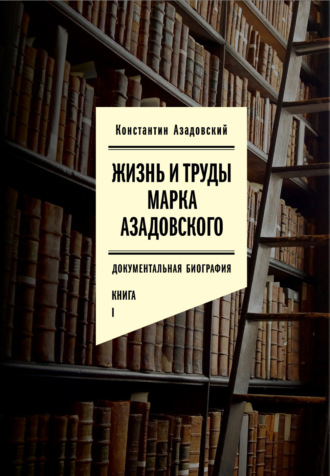
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I

Константин Азадовский
Жизнь и труды Марка Азадовского. Документальная биография. Книга I

Введение
Чем больше я думаю о Марке Константиновиче, тем больше хочется сказать о нем. Так многогранна, так разносторонне богата была его личность. Трудно даже охватить все сразу…1
Мысль о необходимости собрать воедино разнообразные свидетельства о жизни Марка Азадовского и составить своего рода летопись его трудов и дней возникла еще в прошлом столетии. Недостаточность или неточность биографических сведений, связанных с именем ученого, давно ощущалась в гуманитарном сообществе и не раз обсуждалась в беседах и переписке историков литературы, фольклористов, библиографов.
В. А. Бахтина2 писала нам в самом начале нулевых годов:
Вообще, о М. К. должна быть написана монография, обобщающая весь незаурядный его талант как литературоведа, фольклориста, педагога. Многое из его эпистолярного наследия (кое-что и из рукописного) не опубликовано. Вам это, конечно, известно, больше меня. Думаю, что это обязательно будет сделано. Если не в самое ближайшее, то скорое время3.
Документальная биография Марка Азадовского создавалась десятилетиями. Начало было положено трудами Лидии Владимировны Азадовской (урожд. Брун; 1904–1984), вдовы ученого4, пытавшейся спасти от забвения имя своего покойного мужа и его научное наследие. Лидия Владимировна проделала титаническую работу: разбирала архив, готовила к печати письма и рукописи, неутомимо вела переписку, собирала биографические сведения, публиковала… Основными результатами ее многолетних усилий стали два тома «Истории русской фольклористики» (т. 1 – 1958; т. 2 – 1963); три обширных эпистолярных подборки (1969, 1978, 1981); и, наконец, исследование, повествующее о творческих планах ученого и его невоплощенных замыслах, – статья «Из научного наследия М. К. Азадовского (Замыслы и начинания)»5. Достоверно воссоздающая – при всех неизбежных умолчаниях, вызванных цензурными ограничениями 1970‑х гг., – глубокий драматизм научной судьбы Марка Азадовского, эта работа до сих пор остается единственным в своем роде, незаменимым источником.
Лидия Владимировна была первым биографом Марка Азадовского. Выполненная нами «документальная биография» представляет собой, по сути, продолжение ее многолетней работы, постоянно служившей нам точкой отсчета, надежной опорой и вдохновляющим образцом.
Изучение биографии Марка Константиновича было изначально связано с трудностями, казалось, неразрешимыми. Главная из них – недостаточность или недоступность источников. Сохранился, правда, огромный архив М. К. и Л. В. Азадовских, находящийся ныне в Российской государственной библиотеке6 и насчитывающий тысячи документов; однако целые периоды жизни и деятельности ученого не находят в нем отражения. Причина заключается в том, что значительная часть бумаг была в свое время уничтожена… самим владельцем.
Нет необходимости объяснять, почему люди в Советской России занимались ревизией и чисткой своих архивов. Времена менялись, и сохранять свидетельства прошлого означало во многих случаях подвергать себя и свою семью смертельной опасности. Из этой книги читатель узна́ет о деятельности Марка Азадовского в период Первой русской революции, его знакомствах и связях в революционной среде. Будущий профессор приучил себя к конспирации задолго до 1917 г.
Это тем более относится к советской эпохе, когда многие друзья, знакомые и коллеги Марка Константиновича, а также его родственники, оказались за границей или стали жертвами репрессий. Эсеры и социал-демократы, бывшие народовольцы, советские партработники, этнографы, краеведы, писатели, сотрудники сибирских или московских редакций, члены редколлегии «Сибирской советской энциклопедии», соратники по Академии наук, угодившие под маховик советской карательной машины, – со многими из них М. Азадовский был дружен или тесно связан, однако в архиве ученого отсутствуют даже следы его знакомства с большинством из них. Так, в 1937 г. ему пришлось собственноручно уничтожить письма и рукописи Исаака Гольдберга, Пантелеймона Казаринова, Юлиана Оксмана, Исаака Троцкого и других близких ему людей, а кроме того, письма других лиц – по той лишь причине, что в них упоминались крамольные имена. Не сохранились, например, письма Анатолия Турунова7 довоенного времени, что неудивительно: Азадовский и Турунов активно сотрудничали в «Сибирской советской энциклопедии», редакция которой была полностью разгромлена в 1930‑е гг.
Утраченными, таким образом, оказались ценнейшие историко-культурные свидетельства и одновременно источники, столь необходимые для «документальной биографии»8.
Почти полностью отсутствует и ранняя переписка (1907–1917). Подолгу живя вдали от родного дома, Марк регулярно писал отцу и матери, родственникам и сестрам, получал от них ответные письма. Все эти документы безвозвратно погибли. То же относится и к периоду Гражданской войны.
Книгу, которую держит в руках читатель, пришлось не столько писать, сколько воссоздавать (подчас по крупицам).
Другая проблема, затрудняющая изучение биографии и личности Марка Азадовского, – масштабность его фигуры, широта и разнообразие интересов. Ученый-историк, оставивший яркий след в различных областях гуманитарной науки – этнографии, фольклористике, сибиреведении, декабристоведении, литературоведении, библиографии и даже истории русского искусства, – он принадлежал к плеяде филологов «универсального» типа.
С этой стороной его личности столкнулась, например, С. В. Житомирская9, автор работы об Азадовском-декабристоведе. Признавая, что каждый, кому приходится писать об Азадовском, испытывает «немалые трудности», она объясняла их именно «универсализмом» ученого:
М. К. Азадовский был одним из выразительнейших примеров того типа ученого-гуманитария, для которого полем исследования является вся общественная и духовная жизнь изучаемой эпохи. Тип этот, и прежде редкий, к нашему времени, кажется, вовсе исчез, уступив место узкому специалисту. Для ученого же, подобного Азадовскому, прошлое неделимо: он вглядывается в весь поток общественного движения и сознания интересующего его времени в его многообразных сцеплениях и взаимосвязях10.
Действительно: та или иная научная тема существует в трудах Азадовского, как правило, не изолированно, а в непосредственной связи с родственными или смежными областями знания, образуя своего рода «синтез». В пределах одной статьи или даже рецензии этнограф превращается в литературоведа, фольклорист или декабристовед – в библиографа (и наоборот). «Универсализм» предполагает способность воспринимать культуру в разных ее проявлениях и ракурсах.
Конкретное знание сочеталось у Азадовского с историческим чутьем, блестящая эрудиция – с умением понимать поэзию, живопись, театр, не говоря уже о литературном мастерстве, с каким выполнен ряд его «чисто научных» работ.
Напрашивается мысль о «всеядности» ученого, пытающегося охватить разные области гуманитарной науки – фольклор и этнографию, библиографию, историю литературы, искусствоведение. Однако более уместным представляется в данном случае термин «разносторонность». Марк Константинович воспринимал культуру синтетически: фольклор и литература, искусство и литература были для него внутренне связаны; он рассматривал их целостно. Именно это восприятие определяет научную методологию Азадовского, ярко проявившуюся в его крупных и получивших признание трудах.
Наблюдение, сделанное С. В. Житомирской, уместно распространить на все области науки, в которых проявил себя Марк Константинович, но в первую очередь – на фольклор и фольклористику. Изучение народного творчества не ограничивалось для него специальными, «профессиональными» задачами – оно питалось его представлениями о роли и месте народа в развитии национальной культуры. Азадовского интересовали «глобальные» вопросы: вклад русской культуры в мировую, значение фольклора и фольклористических изучений для понимания национальной специфики и, в конечном счете, исторических судеб России.
Не случайно в своем итоговом труде «История русской фольклористики», подвергая ревизии общепринятую последовательность сменяющих друг друга фольклористических школ (мифологическая – теория заимствования – историческая и т. д.), Марк Азадовский предложил собственную концепцию, соединившую русскую фольклористику с развитием общественной мысли и общественных тенденций, с одной стороны, и русской литературой – с другой. Этот двухтомный многоплановый труд (в том виде, как его замыслил и пытался осуществить Марк Константинович) – масштабное начинание, соперничающее по своему месту в русской науке с четырехтомным трудом А. Н. Пыпина «История русской этнографии» (1890–1892).
Дорабатывая в 1947 г. «Историю русской фольклористики», ученый подчеркивал:
…основные вопросы изучения фольклора не могут быть разрешены вне широкой постановки вопросов генезиса того или иного жанра, как и всей народной поэзии в целом, причем проблемы генезиса русского былевого эпоса, сказки и песни не могут решаться изолированно в недрах только самой фольклористики или литературоведения. Они должны быть поставлены и могут решаться только в общей системе исторических наук11.
Убежденный в том, что заключенное в народе творческое начало – основа духовного развития, Азадовский уделял особое внимание проблеме «народности», основополагающей, с его точки зрения, для всей русской культуры. «Русская литература развивается под знаком борьбы за народность…»12 – этот тезис был для него исходным. Изучение произведений и жанров фольклора неразрывно сочетается в научном наследии Азадовского с обращением к фольклоризму русских писателей (Короленко, Пушкина, Языкова, Ершова, Гоголя, Лермонтова, Радищева, Тургенева). Тема «литература и фольклор» становится, начиная с 1930‑х гг., ведущей в его трудах. При этом понятие «народности» трактуется им в связи с «освободительными» тенденциями той или иной эпохи и рассматривается не в узконациональном, а в мировом (западноевропейском) контексте.
Такое же «синтетическое» восприятие культуры отличает и краеведческие труды ученого. Владевшее им с детства чувство коренной связи с Сибирью, его родным краем, неотделимо от ощущения своей принадлежности к «большой родине». Сибирь была для него неотъемлемой частью России. Сохраняя на протяжении своей жизни верность сибирским темам и сюжетам, отыскивая в сибирском фольклоре или творчестве современных писателей и художников местный колорит, Азадовский не уставал подчеркивать органическую связь сибирской и общерусской культуры. Он видел в этом научную проблему, которую сформулировал еще в середине 1920‑х гг.:
Какую роль играла Сибирь и какое место занимает она в творческом сознании русских писателей, под каким аспектом воспринималась «сибирская тема» в различные эпохи, как разрабатывалась она на больших и проселочных путях русской литературы, как трактовались эти темы самими местными и областными писателями и поэтами и как определяется их вклад в общерусскую литературу – вот примерный круг тем и вопросов, который стоит перед нами в качестве основной темы для разработки и изучения13.
Этот «универсализм» Марка Азадовского позволяет видеть в нем наследника традиций русской науки второй половины XIX в., прежде всего Александра Николаевича Пыпина и Александра Николаевича Веселовского. Среди современных ему крупных ученых равновеликой фигурой представляется Виктор Максимович Жирмунский.
Обозревая историю жизни Марка Константиновича – от ранней юности до последних дней, – невозможно избавиться от горького чувства: перед нами разворачивается драматическая история ученого, которому не удалось реализовать себя в полной мере. Об этом свидетельствуют его не опубликованные при жизни работы, включая «Историю русской фольклористики», его главный жизненный труд, а также разнообразные идеи и начинания, о которых мы узнаем из писем, заметок, публикаций и др.
Незадолго до смерти, предчувствуя ее близость и как бы подводя итог прожитой жизни, Марк Константинович сказал жене: «Я был крупный русский ученый, которому не дали раскрыться до конца».
Свидетельница и участница событий последних двадцати пяти лет его жизни, Лидия Владимировна не раз повторяла, что, публикуя тексты и письма своего покойного мужа, она желает прежде всего восстановить справедливость. Продолжая работу Лидии Владимировны, мы преследовали ту же цель и двигались тем же путем: выявляли сведения о неизвестных текстах, написанных Марком Константиновичем; комментировали его замыслы, упоминание о которых находили в его письмах или печатных работах; отмечали его участие в научных заседаниях и конференциях; уделяли внимание устным выступлениям. Мы стремились расширить, насколько возможно, представление об Азадовском-ученом, осветить диапазон его научных и творческих возможностей – показать, чего он мог бы достичь при иных обстоятельствах. С этой точки зрения наша книга не только продолжает, но и существенно дополняет пионерскую работу Л. В. Азадовской.
Причины драматизма научной судьбы Марка Азадовского следует искать в русской истории. Талантливый молодой фольклорист, рано обративший на себя внимание ведущих петербургских ученых (С. Ф. Ольденбург, В. В. Радлов, А. А. Шахматов, И. А. Шляпкин, Л. Я. Штернберг), он сумел к 1917 г. добиться признания в столичном академическом кругу. Его первая крупная работа (книга о П. А. Федотове), вызвавшая волну одобрительных откликов в русских газетах и журналах, сделала имя Азадовского широко известным. Переломным стал 1917 г. Воспитанный в либерально-революционной среде русской интеллигенции начала XX в., Марк Азадовский оказался, как и многие представители интеллектуальной элиты, на распутье. Ему предстояло сделать судьбоносный выбор: остаться в России, охваченной пожаром междоусобной войны, или покинуть страну. И он сделал свой выбор: принял новый режим как историческую неизбежность и пытался продолжать работу в изменившихся условиях. Но полностью адаптироваться не удалось. Нарастание идеологического гнета, советизация науки, волны репрессий, настигавшие то «старую интеллигенцию», то «краеведов», то «этнографов», последовательно вытесняли его из Петрограда, Томска, Читы, Иркутска, заставляли искать прибежища в другом городе или другой области гуманитарной науки. История подступала вплотную, и, пытаясь избежать прямого с ней столкновения, он многократно менял места своего обитания: из столицы в Сибирь, оттуда на Дальний Восток, затем в Иркутск и, наконец, обратно в Ленинград.
Перед нами история ученого советской эпохи, который действительно не состоялся в полной мере, но не потому, что не смог или не хотел воспользоваться возможностями, предоставленными ему историей, а потому, что сама история постоянно лишала его этих возможностей.
Современник национальной катастрофы ХХ столетия, свидетель войн, революций и Большого террора, Марк Константинович не мог отстраниться от общественных перемен, не мог (да и не считал нужным) превратиться в «независимого исследователя». Он вынужден был соотносить свою работу с господствующей идеологией, ее «установками», колебаниями, терминологией. Это зависимое состояние требовало нравственных, и подчас значительных, уступок, губительно сказывалось на структуре личности. Право заниматься любимой наукой давалось непросто; многое приходилось приносить в жертву: подстраиваться под новую идеологию, пользоваться ее словарем.
Пытаясь идти в ногу со временем, Азадовский «переболел» социологизмом и марксизмом, сотрудничал с Марром и марристами и возглавлял, совместно с Ю. М. Соколовым, «сталинскую фольклористику» во второй половине 1930‑х гг. У него, собственно, не было другого выхода. Ученые, упорно не принимавшие господствующей идеологии, оказывались подчас в рискованном и отчаянном положении (яркий пример – Георгий Виноградов, многолетний «бескомпромиссный» друг Марка Константиновича).
Тем не менее он не превратился в «красного профессора», оставаясь, даже в мрачные 1930‑е гг., ученым-гуманитарием, воспитанным в дореволюционную эпоху, из которой он вынес не только ответственное отношение к своей профессии, но и credo русского интеллигента. Сохраняя веру в гуманистическое назначение филологии, он по-своему пытался соединить марксизм с традиционной наукой. Это относится в первую очередь к его трудам в области фольклористики.
Уступки и компромиссы не помогли ему удержаться на позициях, достигнутых в 1930‑е гг. Ученый, посвятивший свою жизнь народной словесности, был объявлен в 1949 г. «антипатриотом», якобы презирающим русский народ, обвинен в «низкопоклонстве» и «космополитизме», уволен из Ленинградского университета и Пушкинского Дома и, что оказалось для него наиболее болезненным, отстранен от занятий русским фольклором.
Впрочем, возможен и другой взгляд: Марку Азадовскому «повезло». Советская карательная машина, перемоловшая множество его друзей и соратников, не затронула ученого напрямую – лишь задела в конце сороковых «по касательной». И ему удалось – вопреки обстоятельствам! – утвердить себя в русской науке, обогатив ее фундаментальными трудами и воспитав несколько поколений учеников.
***Выстраивая биографию Марка Азадовского, мы пытались показать его в различных аспектах: ученый, организатор науки, педагог и воспитатель молодежи, гражданин России, защитник блокадного Ленинграда, супруг и семьянин, библиофил и коллекционер…
Казалось, кроме того, необходимым осветить его интересы и занятия за пределами основной профессии (помимо любви к искусству, чуть было не ставшему для него основной профессией, Марк Константинович увлекался театром, кинематографом и даже… балетом; в юности играл на бильярде, в последние годы предпочитал шахматы, любил фотографировать…). В книге приводятся собранные нами сведения о его семье, окружении, отношениях с друзьями и коллегами. Мы рассказываем и о конфликтных ситуациях, акцентируя при этом такие личностные качества, как умение сопротивляться, бороться за себя и «своих», противостоять завистникам, клеветникам и недругам. Мы стремились воссоздать нравственный облик ученого, выразительно запечатленный в словах Ольги Петровской: «Этот благороднейший человек весь принадлежал науке, любя искусство, книги и людей»14.
В течение своей жизни Марк Константинович встречался, сотрудничал, был знаком и дружен с множеством своих современников. Круг его общения менялся в зависимости от места и времени. Нам казалось важным обозначить этот круг и, называя те или другие фамилии, снабдить их краткими характеристиками. Связи, знакомства и друзья красноречиво свидетельствуют о самом человеке.
Наша «документальная биография» не равноценна научной и не претендует на жанр «монографии». Деятельность Марка Азадовского как этнографа и фольклориста, историка русской литературы, сибиреведа, декабристоведа и библиографа давно (и достаточно полно) изучена, о чем свидетельствуют многочисленные на сегодняшний день статьи, публикации и даже диссертации. По этой причине в книге сокращена часть аналитическая. Взгляды Марка Константиновича на фольклор, его трактовка тех или иных фактов русской культуры, движение его творческой мысли, достоинства и недостатки отдельных работ, включая «Историю русской фольклористики», их соответствие или несоответствие современным подходам – обо всем этом в книге сказано ровно столько, сколько требовала логика повествования.
Составленное нами жизнеописание ученого основано на документах, в первую очередь эпистолярных. Письма Марка Азадовского – особая часть его обширного наследия. Это не только биографический источник. Разнообразные по своей стилистике, окрашенные мягким, интеллигентным юмором, его письма передают неповторимое обаяние его личности. Многие из них примечательны с точки зрения литературной. «…Вы мне доставляете колоссальное удовольствие блеском остроумия Ваших замечательных писем!» – восклицала К. П. Богаевская15.
Составляя эту книгу, мы стремились к тому, чтобы с ее страниц звучал подлинный голос Марка Константиновича.
Письма ученого и его современников – основной, но далеко не единственный источник, на который мы опирались. Использованы и другие архивные документы; многие вводятся в оборот впервые. При этом богатство фактического материала нередко побуждало нас к самоограничению. Отдавая предпочтение неизвестным или малоизвестным сведениям, мы пытались сократить или вовсе исключить то, что уже известно или опубликовано. Так, в книге подробно освещены дореволюционный, томский, читинский и иркутские периоды, труды и дни ученого в блокадном Ленинграде и в эвакуации; более схематично, местами эскизно, – последние годы. Мы оставили за пределами книги часть собранного нами материала, касающегося исследований Азадовского по фольклору, его ведущей роли как организатора фольклористической работы в Ленинграде 1930–1940‑х гг., его декабристоведческих работ в последние годы жизни – тем более что об этих сторонах его деятельности существует обширная литература. То же относится и к его трудам в области библиографии; этой теме посвятила в 1970‑е гг. кандидатскую диссертацию и ряд публикаций В. П. Томина16.
Книга выстроена по хронологическому принципу, выдержанному, впрочем, не всегда последовательно: рассказывая о событиях ранних лет, нам неизбежно приходилось обращаться к фактам или публикациям более позднего времени. При этом казалось целесообразным не распылять один и тот же сюжет, а изложить его целиком в рамках одной главы (показательна в этом отношении глава VII: знакомство и личное общение Азадовского c В. К. Арсеньевым относится к 1910‑м гг., тогда как писать о нем он начал лишь в конце 1940‑х). Хронологический принцип сочетается, таким образом, с тематическим.
Столь же условными являются и названия отдельных глав, обозначающие либо временной период, либо основную тему. Обрастая по ходу изложения частностями, отступлениями и примечаниями, содержание главы отдаляется подчас от ее заголовка.
Ссылки на документы, хранящиеся ныне (в оригиналах или копиях) в семейном собрании, приводятся без отсылок17. Это же относится к иллюстрациям, восходящим к архиву Азадовских, но поступившим впоследствии на государственное хранение. Что касается материалов архива М. К. и Л. В. Азадовских в ОР РГБ (ф. 542), то отсылки к нему даются в большинстве случаев непосредственно в тексте: в скобках указываются картон и номер (через тире), после точки с запятой – соответственные листы.
Письма М. К. Азадовского к Н. В. Здобнову, хранящиеся в АКБ БАН, цитируются без ссылок. То же касается писем Марка Константиновича к И. С. Зильберштейну в личном фонде Ильи Самойловича (РГАЛИ. Ф. 3290; не разобран).
Явные описки или иные погрешности в цитируемых источниках исправлены без оговорок.
Имена известных деятелей русской и западноевропейской культуры (писателей, художников, ученых), а также русских революционеров, прежде всего декабристов, и советских политических деятелей оставлены, как правило, без пояснений. Прочие фамилии комментируются выборочно (либо в самом тексте, либо в подстрочном примечании) – в зависимости от содержания.
Полное библиографическое описание печатного источника дается при первом назывании и в дальнейших главах не повторяется.
Названия учреждений или структур, неоднократно менявших название (например, ИРЛИ, ИГУ, Сектор фольклора и др.), указываются в соответствии с тем периодом, к которому относится событие.
Все даты до 14 февраля 1918 г. приводятся по старому стилю (за исключением ссылок на газету «Речь»); все последующие даты – по новому стилю (в случае необходимости указываются обе даты).
В связи с тем, что фамилия «Азадовский» многократно упоминается почти на каждой странице, мы сочли возможным ограничиться инициалами М. К. Сокращенно (инициалами Л. В.) обозначается и Лидия Владимировна Азадовская.
Собирая материал для документальной биографии Марка Азадовского, мы пользовались содействием многих лиц – перечислить всех невозможно. Назовем лишь имена тех, кто изначально одобрил наш замысел и в течение ряда лет поддерживал нас не только советом, но и конкретной информацией о том или ином источнике (зачастую архивном), ускользнувшем от нашего внимания, делился сведениями, иллюстративным материалом и пр.:
Е. Б. Белодубровский, Н. А. Богомолов (1950–2020), И. Ф. Данилова, П. А. Дружинин, Б. Ф. Егоров (1926–2020), А. М. Ельяшевич, С. А. Захаркин, Л. Н. Иванова (1948–2006), Т. Г. Иванова, О. В. Ищенко, Т. В. Кирпиченко, К. А. Кумпан, А. Я. Лапидус, В. С. Логинова, Г. Е. Лустенберг, К. В. Львов, Д. Я. Майдачевский, Д. М. Меерович, М. Г. Меерович (1956–2018), Т. П. Огородникова, В. С. Отяковский, С. И. Панов, Е. И. Погорельская, Н. С. Полищук, И. Д. Прохорова, А. Л. Рашковский (1946–2017), А. А. Рогинский, А. Ю. Русаков, Т. П. Савченкова, Г. Г. Суперфин, Ю. Л. Троицкий, А. А. Хисамутдинов, Е. В. Чернохвостова-Левенсон, Ю. К. Чистов, И. З. Ярневский (1933–1991).