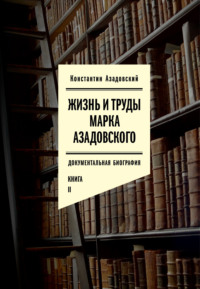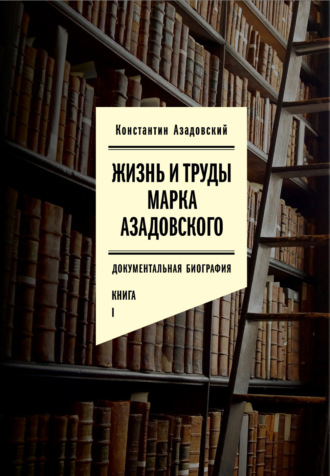
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I
В конце 1905 года я ближе сошелся со своим одноклассником товарищем Никифоровым, уже зараженным революционными идеями и знакомым с некоторыми революционерами Дальнего Востока. Живя с ним в одной комнате, мы часто вели беседы на политические темы, читали нелегальные книги и брошюры, стали ходить к одному, уже старому, хорошо знающему революционное движение Запада и России, который охотно отвечал на наши вопросы и удивительно остроумно критиковал существовавший тогда царский строй (он был мировым судьей на острове Сахалин и с передачей его японцам выехал оттуда. Фамилия его Н. Н. Блудоров)34.
Мы не располагаем достоверными сведениями о встречах М. К. с Блудоровым в 1907 г.35 Заслуживает, однако, внимания следующий факт: на его смерть М. К. откликнулся стихами, которые, по всей видимости, были прочитаны на похоронах Блудорова летом 1907 г. в Хабаровске:
НА СМЕРТЬ Н. Н. БЛУДОРОВАСлез не лейте, друзья,Над могилой святой —Здесь покоится старый боец!Здесь нашел себе светлый и вечный покойСлез народных и горя певец.Над могилой твоейМы не будем рыдать,Не возложим холодных венков,Но клянемся тебе жизнь народу отдать,Сбросить иго позорных оков.Эти строки Вера Николаевна напомнила сыну в письме от 9 апреля 1946 г. (88–37; 40 об.). И благодаря ее письму мы располагаем одним из ярких свидетельств подлинных взглядов и настроений Марка Азадовского: едва вступивший в жизнь, он предстает убежденным последователем русских народников XIX в., готовым «служить народу» и «отдать жизнь» за его просвещение и свободу.
В отношении хабаровского периода остается один вопрос, не вполне проясненный до настоящего времени: о знакомстве М. К. в 1906–1907 гг. (или, возможно, позднее) с Александром Николаевичем Русановым (1881–1936), выпускником Петербургского университета, преподававшим физику в Хабаровском реальном училище. В 1909–1910 гг. Русанов возглавлял Гродековский музей, позднее был избран председателем Народного дома, где систематически читал лекции и одно время заведовал библиотекой36. В своем письме к М. К. Крельштейн от 10 июня 1952 г., спрашивая о хабаровчанах, чья судьба ему неизвестна, А. П. Косованов называет и семейство Русановых (92–45; 3).
В 1906/07 учебном году М. К., сколько можно судить, находился частично в Хабаровске, а частично – в Иркутске, где продолжал посещать мужскую гимназию; шел его последний учебный год. Однако в самом начале 1907 г. произошли события, которые – при неблагоприятном развитии – могли изменить его будущую жизнь роковым образом. Уличенный в хранении антиправительственной литературы и обвиненный в принадлежности к партии социалистов-революционеров, Марк Азадовский оказывается под арестом и следствием.
В одной из своих университетских анкет 1930‑х гг. М. К., отвечая на вопрос: «Участвовал ли в революционном движении?», дал следующий ответ:
В 1907 г. за участие в Союзе учащихся средних школ37 и хранение «нелегальной» литературы был арестован (около 2‑х месяцев)38.
Обстоятельства этой истории раскрывает архивный документ – секретное «представление» прокурора Иркутского окружного суда министру юстиции от 17 февраля 1907 г.:
Имею честь донести Вашему Превосходительству, что помощник начальника иркутского и губернского жандармского управления ротмистр Карпов, вследствие отдельного требования жандармского ротмистра Буленкова, отправился 2 сего февраля на квартиру проживающего в г. Иркутске б<ывшего> воспитанника Иркутской гимназии Иннокентия Соловьева39 для производства у него обыска. Иннокентия Соловьева не оказалось дома, так как он, как выяснилось, в начале января уехал из Иркутска в г. Верхоленск. Бывшую его квартиру занимали ученики гимназии: брат Иннокентия – Петр Соловьев и ученик 8 класса Марк Азадовский. При обыске, произведенном в занимаемой ими комнате, было обнаружено 19 различного содержания воззваний и других изданий партии социалистов-революционеров, из коих некоторые в количестве нескольких экземпляров. В ватерклозете при квартире, в мешке для клозетной бумаги, было равным образом найдено несколько воззваний партии социалистов-революционеров. По агентурным сведениям, Марк Азадовский и Иннокентий Соловьев принадлежат к местной организации партии социалистов-революционеров. Вследствие изложенных результатов обыска ротмистр Карпов приступил 9 февраля сего года к производству дознания в порядке 1035 ст<атьи> Уст<ава> угол<овного> суд<опроизводства> по признакам преступлений, предусмотренных 102 и 132 статьями Угол<овного> улож<ения>. Привлеченный в качестве обвиняемого по названным статьям Уголовного уложения и допрошенный Марк Азадовский не признал себя виновным в приписываемых ему преступлениях и объяснил, что не знает, каким образом к нему попали упомянутые издания партии социалистов-революционеров. Азадовский содержится в Иркутской тюрьме40.
В «Жизнеописании» 1938 г. М. К. упоминает о том, что при обыске в 1907 г. у него были обнаружены «кипы революционной литературы», в том числе – «Письмо крестьян к Николаю II», издание ЦК РСДРП41.
Дознание продолжалось более двух месяцев, причем одна из статей (102) в ходе следственных действий отпала. 12 апреля 1907 г. тот же прокурор Иркутского окружного суда «секретно» извещает министра юстиции, что «дело о бывшем ученике Иркутской гимназии Марке Азадовском предложено <…> иркутскому Окружному суду с обвинительным актом по 2<-й> ч<асти> 132<-й> ст<атьи> Угол<овного> улож<ения> 11 сего апреля за № 9»42.
Обе статьи, по которым Азадовский был помещен под арест, считались «политическими». Статья 102 предусматривала наказание (ссылку на поселение или каторгу) за «участие в сообществе, составившемся для учинения тяжкого преступления», каковым в данном случае считалось насильственное посягательство на установленный в России образ правления43. Статья 132 была более мягкой: ее вторая часть устанавливала ответственность за «размножение, хранение или провоз из‑за границы» антиправительственных сочинений при условии, что «распространение или публичное выставление» оных не последовало. Виновному в совершении такого рода преступления грозило тюремное заключение на срок не более чем три года44.
Судя по вышеприведенным свидетельствам, М. К. находился в заключении около двух месяцев, то есть до начала апреля 1907 г. Причиной столь скорого освобождения послужило, вероятно, то обстоятельство, что решено было не предъявлять ему «тяжелую» 102‑ю статью (то ли следствие не получило требуемых доказательств, то ли в дело вмешался кто-либо из «влиятельных» иркутских знакомых). Освободившись, Марк начинает держать выпускные экзамены – необходимо было закончить гимназию, из которой он был исключен «по распоряжению иркутского генерал-губернатора» еще в феврале (в связи с арестом). Директор (Н. Н. Бакай) не стал, видимо, чинить препятствий, так что в течение апреля и мая 1907 г. М. К. сдает – один за другим – одиннадцать экзаменов и, окончив гимназию экстерном, получает 28 мая свидетельство, необходимое для продолжения образования. В стенах Иркутской гимназии он пробыл, как и сам позднее указывал45, неполных восемь лет.
А через неделю завершилось продолжавшееся четыре месяца уголовное дело «по обвинению бывшего воспитанника местной гимназии Марка Азадовского в хранении, с целью распространения, нелегальной литературы». Судебное заседание состоялось 6 июня 1907 г., и после непродолжительного совещания Иркутский окружной суд вынес Азадовскому оправдательный приговор. Защитником выступал присяжный поверенный Г. Б. Патушинский46.
Остается ответить на последний вопрос: в какой мере заблуждались (и заблуждались ли) восточносибирские жандармы, полагавшие, что Марк Азадовский принадлежит к партии социалистов-революционеров?
В своих анкетах и опросных листах (и до, и после 1917 г.) М. К. не упоминает, естественно, о своей близости к эсерам и неизменно называет себя «б/п» (беспартийным). А в действительности?
Не подлежит сомнению, что по своим настроениям Азадовский в годы юности тяготел к эсерам и принадлежал к ним организационно – об этом красноречиво свидетельствует круг его иркутских и хабаровских знакомств и связей в начале девятисотых годов. Он вполне разделял народническую программу эсеров, их революционный пафос и ненависть к царизму; его нелегальная деятельность протекала в их среде и под их лозунгами. Не исключено, что в 1905–1907 гг. он считался членом Иркутской организации. Думается, впрочем, что он принадлежал скорее к умеренному крылу, не разделял максималистские устремления левых эсеров и, во всяком случае, не сочувствовал «боевым дружинам» и «актам», в которых принимали участие его знакомые, друзья и родственники. Своим основным оружием в борьбе с царизмом Марк Азадовский считал слово: составлял воззвания, обращения к солдатам, писал (и наверняка распространял) листовки… Призывал ли он к вооруженному сопротивлению и насилию? Сомнительно. Не случайно при обыске в феврале 1907 г. у него были обнаружены не бомбы и пистолеты, а лишь воззвания и прокламации (возможно, им самим и составленные), а также ряд нелегальных печатных изданий.
Во всяком случае, несомненно, что в юности, да и в более поздние годы, М. К. оставался убежденным народником и «социалистом», приверженным духу русского освободительного движения XIX в., то есть был эсером скорее «по настроениям», нежели по партийной принадлежности. Его, как и многих, вдохновляли не «программы», а «идеалы»: Свобода, Революция, Народ… Узкопартийное доктринерство было ему чуждо. В обширном кругу его связей 1900‑х гг. мы видим не только эсеров, но и социал-демократов. Один из них известен – это Виктор Ильич Бик (1888–1952), выпускник Иркутской мужской гимназии, член Иркутской организации РСДРП, осужденный в сентябре 1909 г. и высланный в 1910 г. в Якутскую губернию «с лишением всех прав состояния» (определен на поселение в с. Амга)47. Подвергался высылке и аресту в колчаковский период; в 1920–1930‑е гг. занимался журналистско-партийной и библиотечной работой48. Позднее писал о В. Г. Короленко и обращался в этой связи к М. К.49
Подобно многим людям его поколения, увлеченным в начале ХХ в. потоком событий, М. К. был и оставался идеалистом, сохранившим в себе на долгие годы благородные помыслы и порывы революционной эпохи, прежде всего – веру в «народ», его духовные силы, необходимость его «раскрепощения» и т. д. «Мы в то время были переполнены идеалами, стремлениями к светлому, чистому, – вспоминал в 1968 г. Михаил Бенцианов (брат Р. М. Бенцианова), знакомый Марка по Иркутской гимназии, в письме к Л. В. – Марк, по-моему, до конца дней сохранил душевную чистоту, бескомпромиссность» (91–5; 2).
Идеалы революционного народничества, вдохновлявшие М. К. в годы юности, вера в творческие возможности «народа», живой интерес к народной жизни – все это определит его мировоззрение, выбор профессии, направление научной деятельности и, в конечном счете, формирование взглядов на развитие русской национальной культуры.
Глава IV. Петербургский университет
Получив в конце мая 1907 г. свидетельство об успешно выдержанном в Иркутской мужской гимназии «испытании зрелости», М. К. получает право поступления в один из российских университетов. И уже через месяц, 1 июля 1907 г., он направляет из Хабаровска прошение ректору Санкт-Петербургского университета – о зачислении его на словесное (славяно-русское) отделение при историко-филологическом факультете. Ясно, что уже в середине 1907 г. он не сомневался в выборе будущей профессии.
Петербургский университет, вновь открывшийся осенью 1907 г. (после закрытия его в 1905–1906 гг. в связи с революционной ситуацией), состоял в то время из четырех факультетов – юридического, физико-математического, историко-филологического и факультета восточных языков. Строгих рамок между факультетами не существовало, и студенты одного факультета могли посещать – по собственному выбору – лекции и занятия на других факультетах, тем более что с 1906 г. в российских университетах была введена предметная система: каждый студент имел право выбирать – разумеется, в рамках университетской программы – как предметы, которые его интересовали, так и профессоров, чьи курсы ему хотелось слушать. Неудивительно, что многие студенты-юристы, а также студенты других факультетов охотно посещали лекции на историко-филологическом факультете или занимались там в кружках и объединениях. Обычной процедурой, не вызывавшей особой сложности, был и переход с одного факультета на другой.
Поступить на юридический факультет (самый большой по численности студентов) было в то время легче. Учитывая эти обстоятельства, М. К. завершил свое прошение оговоркой: «В случае же невозможности принять на последний (т. е. филологический. – К. А.), то на юридический факультет»1. Так и случилось. И осенью 1907 г., зачисленный на юридический факультет, он становится петербургским студентом.
К прошению, поданному на имя ректора, было приложено, среди прочих бумаг, свидетельство о политической благонадежности, необходимое при поступлении в высшее учебное заведение; оно было выдано Управлением хабаровского военного губернатора 11 июля 1907 г.:
Дано настоящее удостоверение сыну отставного губернского секретаря <…> Марку Азадовскому на предмет представления в Университет в том, что за время проживания его в г. Хабаровске под судом и следствием не состоял и не состоит и в политическом отношении благонадежен2.
В свете событий, о которых шла речь в предыдущих главах, этот документ не может не вызвать удивления. Как появилась на свет эта справка, содержание которой опровергается совокупностью прочих фактов? Сегодня, спустя более чем сто лет, об этом можно только догадываться. Вероятно, Константину Иннокентьевичу или другим родственникам Марка, чтобы получить документ такого содержания, пришлось пустить в ход свои знакомства и связи в Хабаровске и Владивостоке. А возможно, и проще: ведь формально Азадовский, находясь в Хабаровске, действительно не привлекался ни к суду, ни к следствию…
О почти шестилетнем периоде пребывания М. К. в Петербургском университете (1907–1913) сохранилось ограниченное число свидетельств. Л. В. сообщает:
Первый год он проводит на юридическом факультете, потом уже переходит на филологический. Но и тут он колеблется. Его влечет к себе искусство. Каждое воскресенье он часами бродит в полном одиночестве по пустынным тогда залам Эрмитажа3.
Слова Л. В. подтверждаются сохранившимся экземпляром эрмитажного каталога4, страницы которого густо испещрены пометами, ремарками и маргиналиями М. К. – дополнительными сведениями о тех или иных мастерах либо его собственными оценками и суждениями. Любовь к живописи, тонкое ее понимание, желание сочетать историко-литературную работу с искусствоведением – все это восходит не в последнюю очередь к одиноким воскресным часам в пустынных залах Эрмитажа. Разумеется, он посещает и выставки – «Товарищества передвижных выставок»5, «Союза русских художников» и, конечно же, «Мира искусства» и художников-модернистов.
Об интересе к искусству, пробудившемся у М. К. еще в гимназические годы, свидетельствует его письмо к А. Н. Бенуа от 24 сентября 1916 г. Посылая свою книгу о П. А. Федотове, М. К. вспоминает о том времени, когда он, «еще мальчиком, учеником последнего класса одной из гимназий в Сибири», впервые взял в руки «Русскую живопись» Бенуа и, «весь во власти определенных настроений», читал ее «не отрываясь, запоем, но и не переставая негодовать и волноваться». С тех пор, продолжает М. К., прошло десять лет, и Бенуа из «противника» стал для него «учителем». «Именно благодаря Вам, – пишет М. К., – стало крепнуть мое художественное понимание: с Вами я научился понимать то, что прежде любил только инстинктом». Письмо завершается словами о «безграничной благодарности», которую молодой автор испытывает по отношению к А. Бенуа6.
В те же ранние годы (еще в Иркутске) М. К. изучал и другой катехизис современного искусства – книгу немецкого историка искусства Рихарда Мутера «История живописи в XIX веке» (русский перевод: СПб., 1902). 18 января 1954 г. он признается в письме к И. С. Зильберштейну: «Когда-то Мутер был моей любимой книгой. Впрочем, это было примерно 50 лет тому назад».
Увлечение трудами Р. Мутера и А. Бенуа говорит о художественных вкусах М. К. того времени и его приверженности «новому» искусству.
Студентом третьего курса М. К. предпринимает в 1910 г. второе (и последнее в своей жизни) заграничное путешествие, оказавшееся более долгим, чем «лечебная поездка» в 1906 г.: начавшись в мае, оно завершилось лишь в октябре. Все летние месяцы Марк проводит в Мюнхене, снимая комнату в частной квартире на Изабеллаштрассе. Оттуда он совершает поездки в соседний Нюрнберг и другие германские города, а также в Швейцарию (Берн, Люцерн) и Австрию; в сентябре добирается (через Страсбург) до Парижа. В каждом городе петербургский студент осматривает достопримечательности, бродит по книжным магазинам7 и, разумеется, посещает музеи. Особенно много времени он провел в мюнхенской Пинакотеке. Л. В. пишет:
Его влечение к искусству достигает в этот период своего апогея. Он всерьез задумывается над тем, кем он должен стать в будущем, и даже мучается сомнениями: не расстаться ли с историко-филологическим факультетом, чтобы всецело отдаться искусству? Однако любовь к литературе, к художественному слову, оказалась, в конце концов, сильнее, чем увлеченность живописью8.
Немало времени пришлось уделить в те годы изучению иностранных языков. Впоследствии М. К. рассказывал, что на протяжении многих лет первый час после пробуждения (а вставал он всегда рано) «он посвящал изучению иностранных языков – день немецкому, день английскому, день французскому; овладел он и некоторыми славянскими языками»9. К тому же в 1907/08 учебном году ему пришлось усиленно заняться древнегреческим – обязательным для выпускника российской гимназии, желавшего получить университетское образование (в свидетельстве об окончании Иркутской гимназии этот предмет отсутствовал). Где и как учил или совершенствовал Марк Азадовский язык древних эллинов, неизвестно, однако в мае 1908 г. он обратился (видимо, из Хабаровска, куда прибыл на пасхальные каникулы) к директору Владивостокской мужской гимназии с просьбой подвергнуть его испытанию в греческом языке «из курса мужских гимназий». Экзамен состоялся во Владивостоке 30 мая 1908 г., причем испытуемый обнаружил «познания отличные»10. Отправленное в Петербург свидетельство было приобщено к документам личного дела, и тем самым устранилось последнее препятствие к переводу студента юридического факультета на историко-филологический. Прошение о переводе М. К. подал 25 августа 1908 г.11 и в сентябре приступил к занятиям уже в качестве студента словесного отделения.
Перейдя на историко-филологический факультет, М. К. начинает глубоко и всерьез готовить себя к будущей профессии. Факультет состоял в то время из четырех отделений – словесного, классического, романо-германского и исторического. Марк Азадовский оказался, естественно, на словесном (полное название: отделение русской словесности). Он посещает лекции и семинарские занятия известных ученых: слушает лекции Н. О. Лосского по логике, курс «Введение в языкознание» И. А. Бодуэна де Куртенэ, курсы по истории немецкой литературы Ф. А. Брауна и по истории романских литератур, который читал К. Д. Петров, и записывается на «просеминарий» И. И. Толстого по греческому языку. На последних курсах он прослушает лекции Ф. Ф. Зелинского по истории античной литературы12, А. А. Шахматова – по истории русского языка, С. Ф. Платонова – по русской истории, И. И. Лапшина – по психологии, А. И. Введенского – по истории философии и т. д. Именно эти приват-доценты, профессора и академики определяли в то время высочайший уровень гуманитарной науки в Петербургском университете.
Уже в первый год своего пребывания на словесном отделении М. К. знакомится с Ильей Александровичем Шляпкиным (1858–1918), историком литературы, архивистом, палеографом, медиевистом. В течение обоих семестров 1908/09 г. ученый вел на историко-филологическом факультете просеминарий по русской литературе. Занятия у Шляпкина (семинарий по русской словесности) продолжались и на следующий учебный год. Затем, в течение 7‑го и 8‑го семестров, профессор читал курс «Русская народная словесность»13. Благодаря Шляпкину М. К. увлекся русским народным творчеством. И возможно, именно Шляпкин станет для него образцом ученого, успешно сочетающего в своей научной работе различные темы и направления: архивные изыскания, древнерусскую литературу, русский фольклор, историю литературы XIX в. и др.
В апреле 1912 г., когда в Петербургском университете отмечалось 35-летие преподавательской деятельности И. А. Шляпкина14, М. К. написал ему письмо, в котором выразил свои чувства:
Благодарность ученика учителю. Благодарность за все то, что получил я от Вас в часы лекций и общих занятий, и особенно в личной беседе.
Много неясных вопросов осветили Вы совершенно для меня новым светом, и подчас неожиданным; направили внимание мое на многие факты, бывшие до той поры мне чуждыми. Занимаясь у Вас, впервые я познал сущность научной работы. И особенно благодарю я Вас за то теплое внимание, с которым Вы выслушивали иные мои сомнения и разрешали их тем или иным указанием. Такое сердечное отношение остается памятным на всю жизнь15.
Действительно, даже в послевоенные годы М. К., занимаясь с аспирантами Ленинградского университета, нередко вспоминал о Шляпкине «с благодарностью и тепло»16.
Занятия Марка не ограничивались историей литературы. Стремясь посвятить себя родной Сибири, он не мог не увлечься этнографией17. Эта дисциплина, не лишенная в то время гражданского, подчас революционного, содержания18, была представлена в Петербургском университете весьма скупо: созданной в 1887 г. на естественном факультете кафедрой географии и этнографии первоначально руководил Э. Ю. Петри (1854–1899), первый в России профессор этой кафедры; он же возглавлял (с 1894 г.) учрежденное в 1888 г. при факультете Русское антропологическое общество. Однако курс общей этнографии не читался, и М. К. пришлось расширять свое образование вне университетских стен. Его первым учителем и наставником в этой области стал выдающийся русский этнограф Лев Яковлевич Штернберг (1861–1927), в прошлом – политический ссыльный. Оказавшись на Сахалине, Штернберг посвятил несколько лет жизни изучению малых сибирских народностей – нивхов, айнов, гольдов, гиляков. Вернувшись из ссылки, он работал (с 1901 г.) в Музее этнографии и антропологии, занимая должность старшего этнографа; одновременно, начиная примерно с 1906–1907 гг., читал лекции по этнографии для университетского географического кружка, а с 1909 г. – группе студентов-сибиряков, желающих заниматься сибирской этнографией. Эта группа собиралась по воскресеньям в помещении Этнографического музея19 и слушала лекции Льва Яковлевича, который одновременно знакомил своих питомцев с коллекциями музея. В одном из отчетов о работе Сибирского научного кружка при Петербургском университете сообщалось, что «группа членов кружка, изучающая сибирскую этнографию, для продуктивности своей работы вошла в сношение с представителями Этнографического музея и, урывая свободные воскресные дни, слушает лекции по сибирской этнографии, которые ведет в помещении Этнографического музея Л. Я. Штернберг»20. Среди энтузиастов, готовых «урвать» свободное воскресное время для лекций в Этнографическом музее, был и Марк Азадовский. Регулярные занятия, начавшись в 1909 г., продолжились на следующий год. В отчете о деятельности Сибирского научного кружка за 1910/11 учебный год отмечалось, что его этнографическая секция, состоящая из 12 человек, посещала воскресные лекции Штернберга, который, кроме того, «руководил обозрением коллекций Музея»21.
Летом, уезжая на каникулы, студенты-сибиряки занимались, по указаниям Штернберга, сбором этнографических материалов, которые, вернувшись осенью в Петербург, они передавали в Этнографический музей, обогащая его коллекции.
Личные отношения, завязавшиеся между Азадовским и Штернбергом в стенах музея, продолжатся до смерти Льва Яковлевича. В одном из писем к нему М. К. вспомнит об этих занятиях и назовет их «дорогие и памятные часы»22. А в письме к С. А. Штернберг, вдове ученого, М. К. подчеркивал: «Для меня, как и для Виноградова23, лекции Л<ьва> Я<ковлевича> значили чрезвычайно много и в значительной степени определили ход и направление дальнейшей работы»24. О том же М. К. счел нужным упомянуть и в своем некрологе «Памяти Штернберга»:
С редкой отзывчивостью и охотой откликнулся Л<ев> Я<ковлевич> на просьбу молодежи о чтении для них ряда лекций по этнографии и практике собирания. Этим лекциям, прочитанным небольшой группе молодежи, значительно обязано современное сибирское краеведение и сибирская этнография25.
Сообщая о студентах-сибиряках, первых и самых верных учениках Штернберга «во всю предреволюционную эпоху», его современный биограф упоминает также М. К.: