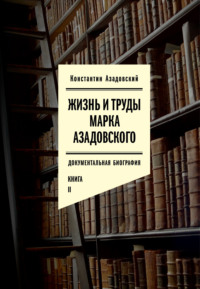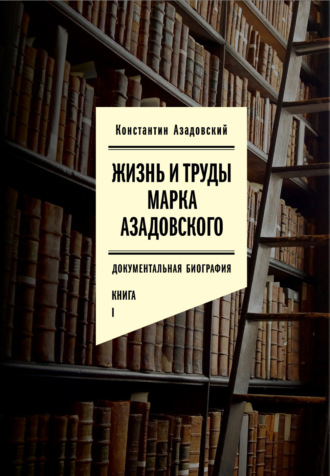
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I
В последние годы XIX в. в Иркутске жили (или временно останавливались) такие известные революционеры (бывшие народовольцы), как Д. А. Клеменц, Ф. Я. Кон, И. И. Майнов, М. А. Натансон, В. Г. Тан-Богораз, Н. С. Тютчев и др. В январе 1903 г. в Иркутск приезжал историк и публицист Н. И. Кулябко-Корецкий (1855–1924), участник «хождения в народ», прочитавший несколько лекций в музее Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества и зале Общественного собрания. И. И. Попов вспоминает:
Лекции нравились публике и производили на нее большое впечатление <…>. По окончании последней лекции произошла демонстрация: группа молодежи приблизилась к кафедре. Один из этой группы прочел адрес революционного содержания и при громких аплодисментах передал его Н<иколаю> И<вановичу>11.
В марте 1902 г. в доме иркутской общественной деятельницы Марии Абрамовны Цукасовой останавливался Л. Д. Бронштейн (Троцкий), выступавший перед местными ссыльными. Среди них был и марксист К. К. Бауэр12, чье имя М. К. упоминает в конце 1930‑х гг. при составлении «Жизнеописания» и других анкет:
Первоначальное и самое сильное воздействие оказал на меня известный К. К. Бауэр, под влиянием которого я впервые ознакомился с марксистской и вообще революционной литературой; но Бауэр скоро покинул Иркутск и в дальнейшем я развивался, главным образом, под влиянием ссыльных народовольцев. Однако влияние К. К. Бауэра очень долго оставалось действенным…13
В августе 1904 г. в Иркутске оказался проездом священник Г. С. Петров (впоследствии лишенный сана за свою публицистическую деятельность) – он также выступал перед иркутской публикой.
Иркутская молодежь жадно тянулась к этим ораторам, впитывала в себя их идеи и настроения. Александр Ельяшевич, старший товарищ Марка Азадовского по Иркутской гимназии, рассказывал в 1949 г. (на допросе в МВД) о революционных увлечениях своей юности:
В то время на молодежь, в том числе на меня, оказали сильное влияние, с одной стороны, находившиеся в Иркутске после отбытия наказания, оставленные затем на поселение бывшие народовольцы, которые потом стали эсерами, и, с другой стороны, находившиеся в ссылке социал-демократы, стоявшие на меньшевистских позициях14.
Общественное брожение, нараставшее в городах России в первые годы ХХ в., все более захватывало и сибирскую молодежь. Осведомленный исследователь сообщает, что в 1898–1904 гг. в Сибири действовало не менее 15 кружков учащейся молодежи (преимущественно старших классов); в качестве своей основной цели кружковцы выдвигали «саморазвитие», однако их настроения имели зачастую политическую окраску. Иркутская мужская гимназия не была исключением. В конце 1902 г. в ее стенах сформировался кружок, «в который входили Г. Левенсон, М. Файнберг, Э. Левенберг, еще несколько гимназистов и „посторонних лиц“»15. Воспоминания А. Б. Ельяшевича, а также архивные материалы, выявленные и опубликованные историком О. В. Ищенко, сообщают ряд дополнительных фактов, позволяющих восстановить картину событий, непосредственным участником или свидетелем которых был Марк Азадовский.
Кружок, о котором идет речь, состоял преимущественно из «гимназистов-евреев» (10–12 человек), собиравшихся «в синагоге и на частных квартирах» и живо обсуждавших «разные факты общественной жизни»16. Перечислим его участников, опираясь в первую очередь на сохранившуюся фотографию членов кружка (см. илл. 6): Моисей Прейсман («Моня»), Павел Файнберг («Пана»), Александр Ельяшевич («Шура»), Яков Винер («Яша»), Самуил Файнберг («Моня»), Марк Азадовский («Маркушка»), Гдалий Левенсон («Гдаля»), Моисей Файнберг («Мося»), Елена Левенсон («Леля»), «Лоля» (?), Эдуард Левенберг («Аркадий»).
На фотографии изображены не все участники «Братства». Отсутствует, например, Исаак Гольдберг, окончивший в 1903 г. пятиклассное городское училище (в будущем – известный писатель), который, по воспоминаниям А. Б. Ельяшевича, формально не входил в эту группу17. Отсутствует и Владимир (Вольф) Прусс, часовых дел мастер. В современных исследованиях, посвященных Исааку Гольдбергу, можно встретить фамилии других лиц, близких к «Братству»: Лейба Виник, ученик Иркутского промышленного училища, Леонтий Лонцих, купеческий сын, и Давид Воскобойников, сын виноторговца, окончивший Иркутское пятиклассное училище18.
Кружок окончательно сложился в 1903 г., когда Левенсон, Ельяшевич и другие учились в шестом классе (а Марк Азадовский, примкнувший к кружку в конце четвертого класса, – в пятом). Ведущую роль в кружке играли старшие по возрасту: братья Файнберги и Гдалий Левенсон.
О дружбе Марка с братьями Файнбергами свидетельствует сохранившийся экземпляр книги немецкого ученого И. Шерра «Комедия всемирной истории. Исторический очерк событий 1848 года» в русском переводе, подаренный Марку в день его пятнадцатилетия. На втором томе книги (СПб., 1899) – три надписи: «На долгую, долгую память славному пареньку Маркушке. Пана»; «(Не забывай, Маркушка, тех, кто искренно доброжелательствует тебе!) Моня»; «На добрую память славному товарищу (теперь уже не мальчику) Маркушке. Мося Файн<берг>».
Ближайшее отношение к кружку в конце 1902 – начале 1903 г. имел поначалу Эдуард Понтович19, ученик 7‑го класса, один из наиболее «непослушных» (иначе: политически зрелых) гимназистов. Исключенный из гимназии в апреле 1903 г., Понтович прославился тем, что публично дал пощечину инспектору Александровичу, которого считал виновником своего исключения20.
После чего весь 7‑й класс был распущен. Тогда 6‑й класс и 5‑й класс объявили, что они тоже уйдут. «Мы требуем нас уравнять в правах с 7‑м классом», и началась забастовка дней на 5. Начальство растерялось (попечит<ель> округа), но вмешались влиятельные родители21, воздействуя и на детей, и на начальство. Было 2 собрания бастовавших на частных квартирах. Когда гимназисты вернулись, то они поблагодарили директора22. Всем поставили в 4‑й четверти за поведение – 2 и занесли в кондуит23.
«Братство» существовало, видимо, около года. После исключения из гимназии Понтовича кружок возглавил Гдалий Левенсон, который, по наблюдению жандармов, «будучи весьма энергичным и подготовленным пропагандистом, повел дело кружка еще шире, начав издавать гектографированный журнал под заглавием „Братство“, в коем стали появляться статьи преступного характера»24. Цели, которые ставили перед собой гимназисты при его создании, можно было бы обозначить словами «саморазвитие» и «самообразование»; в действительности же кружковцы проявляли интерес не к любым, а к весьма актуальным для того времени темам – таким, например, как сионизм, женское равноправие, история и теория революции. Его участники встречались друг с другом (в гимназии и частных квартирах), обменивались новостями и разного рода литературой, слушали и обсуждали рефераты. Известно об одной такой встрече – 17 апреля 1903 г., состоявшейся в квартире Б. А. Ельяшевича; присутствовали Л. Виник, Я. Винер, И. Гольдберг, Г. Левенсон, М. Азадовский, В. Прусс, а также редактор «Восточного обозрения» И. И. Попов, чей сын Александр обучался тогда в 7‑м классе гимназии. Собравшиеся говорили о М. Горьком, «обсудили надвигающуюся революционную бурю и приняли решение о необходимости действовать литературным словом и делом»25.
В этой бурлящей предреволюционной атмосфере и возник журнал «Братство», лишенный, насколько можно судить, отчетливой политической программы, но с «общественным» уклоном. Представление об этом ученическом издании дает единственный сохранившийся выпуск, отпечатанный на пишущей машинке, – четвертый номер от 20 января 1903 г. Он открывается гимном «Свободному слову» и содержит ряд обзорных политических статей, художественный и публицистический разделы, стихотворный «Призыв», посвященный «настоящим сионистам», и статью о «падших женщинах» за подписью: Е. Ангарская26.
Журнал издавался на протяжении 1903 г.; его редактировали три гимназиста: Г. Левенсон, А. Ельяшевич и М. Азадовский (воспоминания А. Б. Ельяшевича). Учитывая, что издание было объявлено еженедельным, а его единственный сохранившийся номер вышел 20 января 1903 г., нетрудно предположить дату выхода первого номера: 30 декабря 1902 г.27 Редакция «Братства» была вынуждена прекратить свою деятельность в ноябре-декабре 1903 г., когда начались обыски и аресты.
Сколько всего номеров «Братства» было выпущено гимназистами? Предположительно восемь28. Впрочем, А. Б. Ельяшевич в 1961 г. вспоминал лишь о пяти номерах: первые три были, по его словам, напечатаны на гектографе (братья Файнберги имели связь с типографией), четвертый и пятый – на пишущей машинке. А. Б. Ельяшевич припомнил даже тираж двух последних выпусков: 5 экземпляров.
Нуждаясь в поддержке старших товарищей, издатели «Братства» естественно тянулись к политическим ссыльным, находившимся в Иркутске. Одним из тех, кто оказывал им содействие, был Глеб Бокий29, якобы написавший заметку для одного из номеров журнала30. История Марка Азадовского свидетельствует, что были и другие связи. Неудивительно, что деятельность «Братства» (и кружка, и журнала) с самого начала оказалась под пристальным наблюдением охранки. 24 января 1903 г. иркутский полицейский департамент, отчитываясь о своей деятельности по учебным заведениям Иркутска, докладывал начальнику губернского жандармского управления:
В Департамент полиции поступили сведения о том, что среди воспитанников Иркутской гимназии существует несколько кружков, в том числе один, основанный почти 2 года тому назад и состоящий, видимо, из гимназистов-евреев, в него входят Прейсман и еще не менее 10 человек. Кружок решил издавать свободный гектографированный журнал «Братство», первый номер которого должен выйти 1 января 1903 г. Сотрудничать в этом журнале будут пока сами члены кружка. У них было несколько собраний, на которых выработана «целая программа действий. Они деятельно рассылают воззвания к гимназистам-сибирякам и предполагают посылать таковые же благонадежным товарищам в Петербург, Москву, Одессу и другие города. Дело решено вести крайне осторожно»31.
Похоже, что иркутская полиция имела свою агентуру даже среди гимназистов.
В течение последующих месяцев «Братство» остается под неусыпным контролем охранки, которой удается перехватить письма Гдалия Левенсона, отправленные за границу и содержащие ряд упоминаний о деятельности иркутских учащихся. Так, 2 августа 1903 г. Гдалий писал своей знакомой Фрусе Райхбаум (из Иркутска в Берлин): «Об открытии кружка уже было собрание, на котором утверждали программу, но еще не окончили»32. В письме к тому же адресату от 22 августа 1903 г. сообщалось, что «учащиеся выделились в самостоятельную группу для успешной работы. Взрослые тоже обособились отдельно, кружки будут им тесная связь» (речь шла о национальных еврейских кружках)33. В письме к другой знакомой, Е. Левзон, от 11 сентября 1903 г. (из Иркутска в Берлин) Гдалий сообщал, что кружок чуть было не распался, поскольку «читать вслух публицистику и делать рефераты» никто не хотел; а издаваемый журнал, говорилось в письме, не достигает своей цели, так как служит для обмена мыслями 10–15 человек34.
Собрав необходимые сведения о деятельности кружка, директор полицейского департамента Иркутска обратился 17 ноября 1903 г. в местную охранку с просьбой «принять меры педагогического воздействия в отношении воспитанников, занимающихся предосудительной деятельностью»35. Охранное отделение не замедлило откликнуться на призыв полицейских. В ходе обысков, проведенных в ночь с 3 на 4 декабря у Воскобойникова, Гольдберга, Лонциха и Прусса, были обнаружены революционные прокламации, отдельные номера газеты «Искра», экземпляры журнала «Братство» и социал-демократические издания36. Все четверо были задержаны и допрошены. У Гольдберга нашли при обыске № 5 «Братства» и открытку, написанную А. Ельяшевичем совместно с Г. Левенсоном; она начиналась словами: «Дорогой Саня, брат родился довольно толстым…». На допросе Гольдберг показал:
Кружок, к которому я принадлежу, преследовал цели самообразования и состоял из близких мне людей, товарищей… кроме того, он не имел никакой организации, а носил чисто случайный характер, т. е., собравшись у кого-нибудь из товарищей, мы менялись мыслями по поводу прочитанных книг… читали еврейскую историю и следили за сионистским движением. Товарищи мои Левенсон, Ельяшевич, Воскобойников, Прейсман и другие по своим убеждениям, как мне кажется, сионисты. Несколько месяцев тому назад старшеклассники гимназисты издавали вполне ученический журнал «Братство», содержание которого почти все заполнялось беллетристикой37.
О дальнейших событиях можно узнать из донесения исполняющего должность прокурора Иркутской судебной палаты Малинина министру юстиции от 13 декабря 1903 г. Оказывается, в ночь на 11 декабря 1903 г. в Иркутске были проведены обыски в квартирах других гимназистов: Гдалия Левенсона, Моисея, Павла и Мони Файнбергов, Эдуарда Левенберга, Александра Ельяшевича, Моисея Прейсмана, Якова Винера и Марка Азадовского, а также ученика Иркутского промышленного училища Лейбы Виника38.
У гимназистов, если верить донесению, ничего предосудительного обнаружено не было, зато у Виника изъяли 8‑й номер журнала «Братство» и дневник, свидетельствовавший о его «преступных связях с учеником Иркутского промышленного училища Абрамом Шнейдерманом, снабжавшим его «разными нелегальными изданиями», и с другими «политически неблагонадежными лицами»39.
Павел и Моня Файнберги, Азадовский и Виник были подвергнуты обыску после допросов Гольдберга и Воскобойникова, указавших на них как на членов созданного в гимназии кружка. Кроме того, Гольдберг сообщил, что Виник является автором помещенной в «Братстве» статьи о сионизме.
По результатам обыска Самуил Файнберг и Гдалий Левенсон были привлечены к дознанию; оба обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 и ст. 251 Уложения о наказаниях40. К дознанию был привлечен также А. Ельяшевич.
В своих письмах в Будапешт от 17 декабря 1903 г. и 9 января 1904 г., также перехваченных охранкой, Гдалий сообщал, что он сам и еще три человека исключены из гимназии (обвиняются в участии «в каком-то „Братстве“, т. е. государственном преступлении») и что им всем грозит от трех недель до полутора лет ареста. Сознавая, что его письма могут попасть в руки жандармов, Гдалий заявлял, что ни в чем не виноват, а о «Братстве» якобы вообще ничего не знает41.
Что касается четырех исключенных, то можно с уверенностью назвать троих: самого Левенсона, Ельяшевича (у него при обыске, как вспоминал Александр Борисович в 1961 г., обнаружили «три револьвера») и Самуила Файнберга. Четвертым же был один из гимназистов, не принадлежавших к «Братству». В «Отчете о состоянии мужских гимназий и прогимназий Иркутского генерал-губернаторства на 1903 год» среди «уволенных за неодобрительное поведение» указаны семь человек (помимо Э. Понтовича и троих выше названных – Валерий Кондаков, Кирилл Кузнецов и Михаил Лесневский). Указано также, что «Кузнецов, Ельяшевич, Лесневский и Файнберг уволены вследствие дознания по обвинению в преступлении»42.
Какая же роль принадлежала в этих событиях четырнадцатилетнему Марку Азадовскому?
«Он был самый молодой в этом кружке, – вспоминал Александр Ельяшевич. – Но самый литерат<урно> образован<ный> и начитан<ный>». Среди отличительных качеств юного Марка он отмечал «огромный литер<атурный> вкус, талантливость, скромность, необычайную живость». И еще – «отношение к людям».
Литературная ориентация «Братства» не оставляет сомнений в том, что Марк Азадовский участвовал в этом журнале не только как редактор, но и как автор. «Первые три номера чисто литерат<урного> характера», – вспоминал А. Б. Ельяшевич, в то же время подчеркивая, что от номера к номеру журнал все более насыщался общественно-публицистическим содержанием. За отсутствием отдельных выпусков (кроме одного) невозможно определить конкретное участие Азадовского в «Братстве», тем более что и стихи, и статьи печатались в журнале под псевдонимом. Известно лишь (со слов Ельяшевича), что в гимназическом кружке уделялось внимание западноевропейской литературе (обсуждались «Ткачи» Гауптмана, «Углекопы» Золя)43 и что Марк сделал однажды доклад «Тип „Скупого“ в литературе (Мольер и Пушкин)»44. Возможно, одна из тем была представлена и на страницах «Братства». «У него <Марка> было несколько литер<атурно>-критич<еских> статей», – вспоминал Ельяшевич.
В «Жизнеописании» (1938) М. К. указал, что его «первый научный доклад», прочитанный «в нелегальном самообразовательном кружке учащихся», был посвящен книге Энгельса «О происхождении семьи, частной собственности и государства»45.
Независимо от количества и содержания его статей и докладов для «Братства» важен тот факт, что научно-литературная деятельность Марка Азадовского началась в 1902–1903 гг. именно в рамках этого гимназического кружка. Уже в те годы, будучи еще подростком, он, должно быть, впервые почувствовал свое подлинное призвание. Очевидно, что уже тогда он проявлял интерес к марксизму, социальным учениям, истории и общественной мысли. Что же касается прочих гимназических предметов, то здесь юный Марк явно не блистал талантами (выше упоминалось о чистописании и рисовании). Однако приближалась революция, и такие предметы, как чистописание, вряд ли интересовали Марка и его товарищей по Иркутской гимназии. Их духовное формирование протекало на фоне бурных общественных событий и под непосредственным влиянием людей, причастных к революционному движению. Сострадание угнетенному народу, борьба за его освобождение, готовность «идти на подвиг» и приносить «жертву» – этими и подобными настроениями Марк Азадовский проникся уже в ранней юности46.
Сохранилось воспоминание М. К. о чтении одной из книг, созвучной его юношеским переживаниям. В письме к фольклористке В. Ю. Крупянской (1897–1985) он рассказывал 12 мая 1949 г.:
Я помню, как юношей я зачитывался романом Сенкевича «Потоп»47. Я очень любил эту романтическую эпопею и по сию пору живо представляю себе образы Кмицица, Володыевского, – «маленького рыцаря», особенно потому и пленившего мое воображение, ибо я ведь был очень малюсенький гимназистик; великолепного пана Заглобу, красавицу-патриотку Александру, пана Биллевича и т. д. Не знаю, как теперь показался бы мне этот роман, но тогда (сорок лет тому назад) я буквально бредил им. Да нет, больше сорока лет, – я был тогда еще, кажется, не то в 6‑м, не то в седьмом классе, стало быть, и все 45 лет будут. Я помню его (т. е. романа) великолепное оптимистическое заключение. «Нет такого тяжелого положения, из которого viribus unitis48 нельзя было бы найти выход». Примерно так49.
В те годы в Иркутске находились (или бывали проездом) известные народовольцы, землевольцы и другие политические ссыльные. С кем из революционеров старшего поколения был знаком и встречался Марк Азадовский?
Одним из его старших товарищей был И. И. Майнов (1861–1936), этнограф, антрополог, бывший народоволец, сосланный в Сибирь еще в начале 1880‑х гг., член редакции «Восточного обозрения» и активный сотрудник Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. В одной из своих статей 1930‑х гг. М. К. назовет его «крупнейшим представителем народнической этнографии»50. Вместе с А. А. Крилем и другими Майнов был создателем «Сибирского союза социалистов-революционеров», а в 1904 г. вошел в ЦК партии эсеров.
Майнов был знаком с семьей Азадовских. Весной 1905 г. Давид Азадовский, совершая поездку в европейскую часть России, привлек к себе внимание охранки. 23 апреля 1905 г. ротмистр Модль докладывал в Департамент полиции о «выезде из Москвы в С.-Петербург иркутского цехового Давида Иосифова Азадовского, взятого наблюдением в Москве от видного деятеля партии социалистов-революционеров верхоленского мещанина Ивана Иванова Майнова». Сообщение о подозрительном лице пересылается – под грифом «совершенно секретно» – в варшавский Департамент полиции с просьбой обратить серьезное внимание на «иркутского цехового» и установить за ним наблюдение51.
О встречах Марка Азадовского с Майновым в те годы сведений не имеется. Однако, учитывая, что в 1902–1904 гг. Майнов служил инспектором Северного страхового общества в Иркутске, можно предположить, что именно он содействовал устройству родителей Марка в Хабаровске, где Вера Николаевна получила в начале 1900‑х гг. место страхового агента.
Майнов продолжал заниматься революционной работой вплоть до 1918 г. С 1911 г. он служил в Петербурге (статистик при Министерстве путей сообщения). Есть все основания полагать, что М. К., поступив в Петербургский университет, поддерживал с ним отношения. В 1917 г. Майнов был одним из кандидатов в Учредительное собрание (от Петрограда). Его адрес можно найти в записной книжке Азадовского за 1917–1922 гг. С именем Майнова связано, по-видимому, и участие М. К. в еженедельной газете «Вольная Сибирь» весной 1918 г. (Майнов был одним из редакторов).
Более тесные отношения связывали Марка с другим политическим ссыльным – Александром Александровичем Крилем (1843–1908), работавшим в начале 1900‑х гг. в управлении Забайкальской железной дороги. Криль был профессиональным революционером, прошедшим аресты, тюрьмы и ссылку. Попав в 1900 г. в Иркутск и будучи одной из наиболее ярких фигур в кругу ссыльных революционеров, он возглавил в 1905 г. (наряду с Г. М. Фриденсоном и В. А. Вознесенским) иркутскую группу социалистов-революционеров. Кроме того, был прекрасно образован, начитан, знал западноевропейские языки (им была переведена пьеса Шиллера «Вильгельм Телль», поставленная в его переводе на сцене иркутского театра52). В 1860‑е гг. он переписывался с Н. П. Огаревым53; был знаком также с В. Г. Короленко, с которым долгие годы дружила дочь Криля, писательница и переводчица Т. А. Богданович. Вероятно, именно широта кругозора, которой отличался Криль, его причастность к народничеству и демократическому крылу русской литературы второй половины XIX в. и привлекла к нему Марка Азадовского.
«М. К. был особенно связан с Крилем, и через него кружок („Братство“. – К. А.) познакомился с народовольцем», – свидетельствует А. Б. Ельяшевич.
Конечно, круг революционно настроенных деятелей, с которыми мог общаться юный гимназист, не ограничивается этими двумя фамилиями. В сентябре 1949 г., отвечая на вопрос следователя, А. Б. Ельяшевич сообщил:
В Иркутске в тот период я принимал активное участие в эсеровских кружках, которым много оказывали внимания бывшие народовольцы: Доллеро Софья Наумовна, Вознесенский Владимир Александрович, Майнов Иван Иванович, Тютчев Николай Сергеевич, Фриденсон Григорий Михайлович; из меньшевиков помню доктора Мандельберга54, который был затем членом Государственной думы от меньшевиков, а позже эмигрировал в Палестину; Цукасову Марию Абрамовну, Шнейдермана Абрама55.
«Преступная связь» А. Шнейдермана с членом «Братства» Я. Винником была, как мы помним, выявлена усилиями иркутской полиции. Нетрудно предположить, что и другие кружковцы, в частности Азадовский, были связаны с теми лицами, о которых спустя много лет вспоминал А. Б. Ельяшевич.
Каким же было конкретное участие Марка Азадовского в иркутских событиях того времени? Принадлежал ли он к какой-либо политической группировке? Выступал ли на сходках, маевках, митингах и других общественных мероприятиях? Достоверно известно лишь, что после обысков в конце 1903 г. и дальнейших иркутских событий встревоженные родители забирают сына из гимназии, а затем – пытаются удалить его из Иркутска. Пользуясь тем, что Константин Иннокентьевич был в 1900‑е гг. связан по службе с Хабаровском и другими восточносибирскими городами, они пытаются устроить его в Читинскую гимназию (полагаясь, возможно, и на читинских родственников). Сохранилось прошение В. Н. Азадовской, проживающей в Хабаровске «женой чиновника», на имя директора Читинской гимназии, следующего содержания:
Муж мой, Константин Иннокентьевич Азадовский, бывший по делам службы в Иркутске, взял обучавшегося в 6-ом классе Иркутской классической гимназии сына нашего Марка с целью перевести его в одну из ближайших гимназий по месту нашего местожительства, но по дороге сын наш заболел и прохворал до начала апреля, поэтому-то мужем моим не было подано прошение своевременно Вашему превосходительству о принятии его в 6-ой класс. Теперь же, по случаю отсутствия мужа моего из Хабаровска, представляя при сем 1) формулярный список моего мужа, 2) свидетельство о крещении сына, 3) свидетельство о привитии ему же оспы, 4) свидетельство из Иркутской гимназии о переходе сына в 6-ой класс и 5) срочную ведомость нашего сына, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о принятии сына моего без экзамена в 6-ой класс вверенной Вам гимназии56.
31 июля 1904 г. директор Читинской гимназии сообщил Вере Николаевне, что вопрос о приеме будет решен 20 августа 1904 г. При этом, указывал директор, «ученики, переходящие из одной гимназии в другую, должны подвергнуться испытанию по всем предметам гимназического курса, если прошло более трех месяцев со времени выхода их из прежней гимназии»57. В тот же день (31 июля) директор попросил своего иркутского коллегу прислать ему копию «кондуитного списка» бывшего воспитанника. Из присланного ответа можно узнать, что Марк Азадовский выбыл из Иркутской гимназии с 1 мая 1904 г. «по прошению отца по семейным обстоятельствам». Поведение Марка оценивалось отметкой 4, а в кондуите сообщалось о нескольких его дисциплинарных нарушениях. Первое относилось к весне 1903 г.: «Демонстративно ушел с урока французского языка 15 апреля и не являлся 16–18 апреля». Второе – к 16 октября 1903 г.: «Слишком плохо ведет себя на уроках Закона Божия». И третье – к 11 ноября 1903 г.: «Постоянно разговаривает и смеется на уроках немецкого языка». За каждое из этих нарушений гимназист понес наказание: «Был оставлен на один час»58. О прочих проступках и тем более «настроениях» Марка в кондуитном списке не упоминалось.