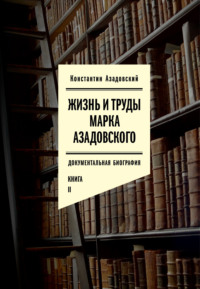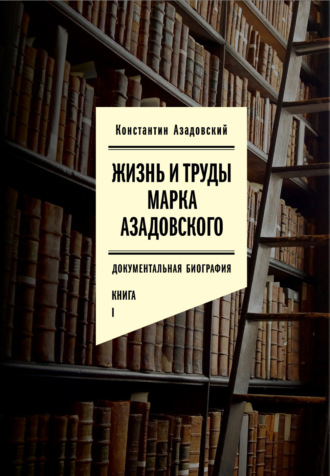
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I
Под этим документом стояла подпись тогдашнего директора Иркутской гимназии Н. Н. Бакая59, не сочувствовавшего «левым» настроениям. Сознательно ли он умолчал о причастности Азадовского к группе революционно настроенной молодежи или же не был достаточно информирован, выяснить затруднительно.
В некрологе Н. Н. Бакая можно прочесть следующее:
Не без иронической улыбки, но зато с некоторой благодарностью вспоминают учившиеся в этих гимназиях своего строгого преподавателя и не менее строгого, но справедливого директора, всегда любившего ставить юношеству в пример свою скромную уединенную жизнь, а также свою любовь и рвение к науке60.
Архивное дело о переводе Азадовского из Иркутской в Читинскую гимназию завершается копией (или черновиком) письма директора к В. Н. Азадовской, и это позволяет нам сделать вывод, что родители, по размышлении, предпочли отказаться от своего намерения. Что было дальше, не вполне ясно. Известно лишь, что в течение года он вообще не посещал гимназию, занимался дома. Возможно, это был 1904/05 учебный год. Непонятно также, где он находился в то время, – в Иркутске или Хабаровске.
Не подлежит сомнению лишь одно: активное участие Марка Азадовского, наряду с его родственниками и близкими товарищами, в бурных событиях того времени. «По заданию эсеровской организации я лично также выступал в качестве агитатора на ряде митингов и собраний», – свидетельствовал А. Б. Ельяшевич в 1949 г.61 Думается, что и Марк не слишком отставал от своего друга: посещал митинги и собрания, распространял агитационные материалы… Вероятно, был автором нескольких прокламаций. Он вполне разделял народническую платформу социалистов-революционеров, хотя, возможно, и не в радикальном его течении, как, например, Гольдберг, Ельяшевич, Гдалий и Михаил Левенсоны, Моисей Прейсман и братья Файнберги, ставшие в 1905 г. эсерами крайней (максималистской) ориентации; некоторые из них участвовали в террористических акциях. Можно также предположить, что, поддерживая революционные устремления своих сверстников, Марк с меньшим энтузиазмом разделял их увлечение «сионизмом» (если толковать это понятие как духовное возрождение еврейства).
Осенью 1905 г. в Иркутске произошли события, которые потрясли весь город. 17 октября, во время очередного столкновения революционно настроенной толпы с местными черносотенцами, погибли братья Исай и Яков Винеры; их похороны вылились в гражданскую манифестацию. С речами у могилы Винеров выступали Самуил Файнберг и Аарон Гольдберг (старший брат Исаака)62. На этом беспорядки не кончились. 22 октября 1905 г. одним из иркутских ультрапатриотов был убит (за отказ встать при исполнении гимна «Боже, царя храни») краевед и исследователь Восточной Сибири, талантливый лектор, преподаватель естествознания в Иркутской мужской гимназии Антон Михайлович Станиловский, исполнявший также с 1900 г. обязанности консерватора музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества63.
Конечно, Марк Азадовский, если только он находился тогда в Иркутске, не мог не присутствовать на похоронах своего товарища по «Братству», как и своего гимназического педагога, популярного среди иркутской молодежи.
К тому времени в Иркутске уже сложилась боевая эсеровская дружина, которую возглавлял М. Прейсман; ее численность составляла в ноябре 1905 г. приблизительно 90 человек. Активными ее членами являлись И. Гольдберг, П. Казаринов, И. Соловьев64, братья Файнберги65 и другие товарищи Марка.
Мы достоверно не знаем, посещал ли он в том учебном году гимназию (и если посещал, то как часто): есть сведения, что ему пришлось пропустить целый учебный год, а затем «наверстывать». Учитывая заграничную поездку Марка в начале 1906 г. и пребывание родителей в Хабаровске, можно предположить, что это был именно 1905–1906 год. Весной 1907 г. он должен был закончить Иркутскую гимназию, однако, согласно свидетельству о полученном образовании от 28 мая 1907 г., представленному при его поступлении в Петербургский университет, числился ее учеником лишь до февраля 1907 г., что было связано с его арестом и привлечением к дознанию (см. далее).
Как сложились судьбы других участников «Братства» и близких к нему иркутских гимназистов?66
Александр Ельяшевич (1888–1967) покинул Иркутск в сентябре 1905 г. и поступил на экономический факультет Политехнического института в Петербурге. Продолжал заниматься активной деятельностью как член партии эсеров (вышел из партии в 1919 г.). В 1908–1913 гг. учился в Мюнхене. В 1917 г. был избран депутатом Учредительного собрания (от партии эсеров). Впоследствии – крупный ученый-экономист, профессор. Неоднократно подвергался арестам и в советское время, последний раз – в 1950 г. (пятилетняя высылка в Канск).
Эдуард Левенберг (1886 – не ранее 1956) поступил в 1906 г. на юридический факультет Петербургского университета67, но в декабре 1910 г. был арестован «по принадлежности к революционным студенческим фракциям», исключен из университета и подвернут административной высылке68. В 1917 г. – председатель исполкома Юго-Западного фронта; член следственной комиссии по делу генерала Корнилова. Участник заседания Учредительного собрания 5 января 1918 г. Подвергался аресту в 1921 г. Жил и работал в Московской области. Репрессирован в 1938 г., освобожден в 1956 г.
Гдалий Левенсон (1886–1906), высланный летом 1906 г. за пределы Иркутской губернии, вскоре принял участие в вооруженном нападении на учетно-ссудный банк в Белой Церкви (под Киевом). Акция, в ходе которой были убиты городовой и один из посетителей банка, проводилась, следует думать, во имя высоких революционных целей. Преследуемый полицейскими, Гдалий не нашел иного выхода, как застрелиться69.
Елена Левенсон (1884–1934), родная сестра Гдалия и двоюродная – Марка Азадовского, окончив Иркутскую женскую гимназию, уехала учиться в Германию, где получила медицинское образование. Своего сына от первого брака с М. С. Мильманом она назвала Гдалием – в память о погибшем брате. Вернувшись перед Первой мировой войной в Россию, работала врачом-педиатром, возглавляла отделение в московском Институте материнства и младенчества. Погибла случайно (попала под поезд, находясь на летнем отдыхе в Ессентуках).
Ее сын Гдалий Мильман (1907–1938), сторонник и почитатель Троцкого, подвергался начиная с 1929 г. репрессиям и погиб в ГУЛАГе70.
Эдуард Понтович (1886–1941, репрессирован) получил аттестат зрелости в Красноярской губернской гимназии и в 1907 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета, который окончил в 1911 г. (Его фамилия, петербургский адрес и телефонный номер значатся в записной книжке Марка Азадовского за 1917–1922 гг.) Получил степень доктора в Дерптском университете. Работал с 1919 г. в Иваново-Вознесенском политехническом институте и Институте народного образования, с 1922 г. – в Москве (Плехановский институт, аппарат ВЦИК СССР). С 1935 г. – в Книжной палате. Арестован в 1936 г.; выслан в Магадан, где умер от туберкулеза. Написанная им в 1930‑е гг. книга «Диалектический метод Гегеля» опубликована в 1991 г.71
Моисей Прейсман (1886 или 1887 – 1912?) получил юридическое образование и стал присяжным поверенным. Умер в Иркутске и похоронен на лютеранском участке Иерусалимского кладбища.
Моисей Файнберг (даты жизни неизвестны) в 1904 г. уехал из Иркутска в Париж; вернулся в Россию не ранее 1914 г.
Павел Файнберг (1886–1906) поступил в 1905 г. в Томский университет. Осенью 1906 г. принимал участие в подготовке покушения на генерала П. К. Ренненкампфа; был арестован и заключен в иркутскую тюрьму. Вместе с другими заключенными организовал побег, во время которого был тяжело ранен и вскоре скончался72.
Самуил Файнберг (1885–1921) также поступил в 1905 г. в Томский университет, где проучился не более одного семестра. В 1906 г. уехал в Киев, где был избран в местный комитет партии эсеров. Участвовал в подготовке покушения на военного министра А. Ф. Редигера (1907), но был арестован и осужден на 15 лет. Освободился после Февральской революции. В октябре 1918 г. был кандидатом в члены Всесибирского комитета партии социалистов-революционеров; жил в Томске, где редактировал (вместе с иркутянином М. С. Фельдманом) эсеровскую газету «Голос народа» (см. главу XII). После прихода 5‑й армии РККА уехал в Дальневосточную республику. При попытке вернуться задержан большевиками в бурятском городе Мысовске (ныне Бабушкин) и расстрелян.
Сохранилась фотография Самуила Файнберга, подаренная им М. К. с выразительной надписью: «На память о днях прекрасной юности моему дорогому Марку, младшему брату. С. Файнберг. Томск, 5 октября <1918>».
В письме к своей возлюбленной Анне Кроль Исаак Гольдберг упоминает 26 июня 1925 г. о встрече с 17-летней Ольгой, дочерью «Мони» Файнберга, приехавшей из Москвы в Иркутск («…у ней уже слагается своя жизнь, она идет своей дорогой, вот-вот вступит в комсомол…»)73. Дальнейшая ее судьба неизвестна.
«М. К. очень любил вспоминать этот период своей жизни, – писала Л. В., – и постоянно пытался засесть за свои воспоминания, да так руки и не дошли»74. Не «дошли руки» и у Александра Борисовича Ельяшевича. Историю «Братства» и судьбы его участников пришлось восстанавливать по архивным и другим источникам нынешнему поколению российских историков.
Глава III. Хабаровск. Арест
В «Кратком жизнеописании» М. К. сообщает о переменах в жизни своей семьи, наступивших приблизительно в 1905 г.:
Положение семьи значительно изменилось с переездом родителей на Дальний Восток, где отец получил повышение по службе, а мать стала работать в качестве представителя фирмы по продаже пишущих и швейных машин, пианино и проч., а также в качестве страхового агента. Последние годы отец также оставил государственную службу и перешел на частную службу в Северное страховое общество. Все это позволило родителям значительно упрочить свое материальное положение, и в 1907 или 1908 г. им уже удалось приобрести в рассрочку дом1, проданный в 1923 году Дальздраву2.
По-видимому, Азадовские решили воспользоваться ситуацией, сложившейся в связи с реорганизацией горного ведомства, в котором служил тогда Константин Иннокентьевич, получивший в начале 1905 г. «за выслугу лет» чин губернского секретаря и награжденный (в апреле 1905 г.) орденом Станислава 3‑й степени. В феврале 1905 г. он был переведен на должность счетного чиновника Временной ревизионной комиссии «по поверке вызванных войною с Японией расходов»3. Но уже 30 мая 1905 г. приказом по Временной ревизионной комиссии он был «уволен от должности и службы в Комиссии, согласно прошению, по домашним обстоятельствам»4. Какими могли быть эти «обстоятельства»?
Окончательный переезд в Хабаровск (ранее Константин Иннокентьевич и Вера Николаевна бывали в этом городе неоднократно5) осуществлялся, видимо, в течение 1904‑го и в начале 1905 г.6 Марк, насколько можно судить, не принимал участия в этом «обустройстве», тем более что родители, напуганные, видимо, революционными настроениями своего отпрыска, почли за благо отправить юношу за границу. Молодой человек уезжает в Германию (через Екатеринбург7 и, возможно, Петербург). В Западной Европе он пробыл с марта по май 1906 г., посетив среди других городов Берлин и Вену8. Упоминая впоследствии в разного рода анкетах о своем первом пребывании за границей, М. К. неизменно указывал цель поездки: «лечебная». Насколько это соответствует действительности, можно только предполагать. Неизвестно также, с кем он встречался за границей и какой характер носили эти встречи.
Хабаровск, центр Приамурского генерал-губернаторства, был по сравнению с Иркутском молодым городом. Нынешнее его название появилось на географической карте лишь в 1893 г. (ранее он именовался Хабаровка). В последние десятилетия XIX в. город стремительно развивался: в него устремлялись торговцы, предприниматели, переселенцы; постепенно формировалась местная интеллигенция. В 1894 г. при поддержке приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова в Хабаровске открылся Приамурский отдел Русского географического общества; тогда же были созданы музей (ныне Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова) и Николаевская публичная библиотека (ныне Дальневосточная государственная научная библиотека), одна из первых публичных библиотек на Дальнем Востоке. Начала выходить газета «Приамурские ведомости». В том же году начал работать драматический театр. А в 1901 г. по инициативе Н. И. Гродекова был открыт Художественный музей.
Особо следует отметить созданный в начале ХХ в. силами местной интеллигенции Народный дом имени А. С. Пушкина (его называли также Домом народных чтений), при котором возникло Общество содействия народному просвещению9. С этим Домом связана хабаровская жизнь Азадовских, и прежде всего Константина Иннокентьевича, принимавшего участие в деятельности любительского драматического кружка при Народном доме. Об этом свидетельствует, например, А. П. Косованов в своих письмах начала 1950‑х гг. к М. К. и его сестре Магдалине10.
«Вашу маму я мало знал, но Константин Иннокентьевич был нашим другом, часто посещал нас11, – делился А. П. Косованов своими воспоминаниями с М. К. Крельштейн 10 июня 1952 г., – он выступал нередко в Народном Доме на литературных утренниках, приглашал нас на свои спектакли благотворительные в Собрании12…» (92–45; 3). О том же Косованов писал и М. К. 11 мая 1952 г.: «…Часто вместе семьями бывали в благотворительных спектаклях, которые он (Константин Иннокентьевич. – К. А.) организовывал и с удовольствием играл. Помню „Дядю Ваню“ Чехова». В другом, более позднем, письме (к М. К. Крельштейн) Косованов сообщает, что на воскресных утренниках в Народном доме К. И. Азадовский читал юмористические рассказы Тэффи (92–45; 8 об.). Это сообщение заслуживает доверия – оно подтверждается другими свидетельствами. Так, 9 декабря 1911 г. на одном из вечеров в Народном доме Азадовский-отец прочел рассказ Аверченко «Визитер». «Во время чтения, – сказано в газетном отчете, зал оглашался взрывом хохота. Публика долго аплодировала, вызывая на бис»13.
Бывший хабаровчанин (впоследствии собиратель музыкального фольклора) М. П. Сизых (1885–1948) вспоминал в недатированном письме к М. К. (видимо, вторая половина 1930‑х гг.): «Были знакомы мы в Иркутске, еще будучи юношами. Потом встречались в Хабаровске, куда Вы приезжали к своим родителям в 1910‑м или <19>11 году. С Вашим папашей мы подвизались на сцене Народного Дома имени Пушкина» (70–20; 1)14.
В последние годы жизни Константин Иннокентьевич принимал участие в работе хабаровского Литературно-музыкального драматического общества; в 1912 и 1913 гг. он значился членом комитета этого общества и даже товарищем председателя15.
Именно эта сторона «общественной деятельности» К. И. Азадовского была отмечена в посвященном ему некрологе:
Имея любовь к драматическому искусству, которому он отдал лучшие молодые годы, он здесь (в Хабаровске. – К. А.) неоднократно выступал и как исполнитель ответственных ролей, и как режиссер, и как инициатор благотворительных спектаклей. <…> Много им в этом отношении сделано было для Общества содействия народному просвещению, для Литературно-музыкально-драматического общества, где он не так давно состоял товарищем председателя16.
В своих письмах к Марку и Магдалине Азадовским начала 1950‑х гг. А. П. Косованов называет ряд лиц, с которыми он был связан в начале 1910‑х гг. общей работой в Народном доме и с которыми, судя по цитируемому письму, была знакома или дружна семья Азадовских. Первый в этом ряду – «Александр Борисович». Косованов не указывает его фамилию, убежденный в том, что М. К. памятно это имя. Речь идет о враче хабаровской переселенческой больницы А. Б. Моисееве (1882–1938; расстрелян), председателе Общества содействия народному просвещению при Народном доме. Моисеев придерживался народнических взглядов и, очевидно, был связан с местными социалистами-революционерами. После 1917 г. жил и работал во Владивостоке17, где и был арестован. В сфабрикованном против него деле упоминалось об участии в «антисоветской подпольной эсеровской террористической организации». Вместе с ним была расстреляна и его жена Зинаида (1891–1938).
В своем письме от 11 мая 1952 г. А. П. Косованов вспоминает и о семье Тимофеевых («я у них прожил на квартире один год»), с которой у Азадовских сложились в Хабаровске дружественные отношения. Глава семьи, Михаил Акимович (Иоакимович) Тимофеев, в прошлом народоволец, отбывший в свое время ссылку в Минусинском крае, провел несколько лет в Томске, где издавал (вместе с С. П. Швецовым18 и др.) нелегальную газету «Отголоски борьбы»19. В начале 1900‑х гг., переехав в Хабаровск, получил место инспектора Северного страхового общества, в котором стала работать и Вера Азадовская.
М. А. Тимофеев был образованным человеком, знал и любил литературу и отдал немало сил просветительской деятельности. В доме на углу Муравьево-Амурской и Яковицкой улиц была открыта частная читальня и кабинет для чтения Тимофеевых20. Михаил Акимович был действительным членом Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, возглавлял правление Хабаровского общества содействия народному просвещению и входил в правление Народного дома, в работе которого принимал деятельное участие. Так, упоминавшийся выше вечер, на котором Константин Иннокентьевич читал рассказ Аверченко, открывался лекцией М. А. Тимофеева «Очерк истории новейшей русской литературы»21.
У Тимофеевых было два сына и две дочери. Старший сын Евгений (1885–1941; расстрелян) с юности посвятил себя революционному делу22; младший, Юрий (1900–1976), стал дирижером (преподавал в Московской консерватории)23. Одна из дочерей, Зинаида, стала женой А. Б. Моисеева (см. выше). Другая дочь, Муза (в замуж. Кюбар), дружила с Лидией и Магдалиной Азадовскими24.
Осенью 1915 г. в хабаровском доме Тимофеевых останавливался известный народоволец писатель Н. А. Морозов, совершавший лекционную поездку по городам Сибири и Дальнего Востока. В дневниковых записях его жены К. А. Морозовой сохранились строки о «милейшей семье Тимофеевых, где не знаешь, кто больше нравится из членов семьи. За неделю совместной жизни я очень дружусь <так!> с Неониллой Григорьевной25. Сын у них тоже политический, да и отец был в ссылке. Чувствуешь себя как в родной семье. Они живут в отдельном уютном домике с садом»26.
М. А. Тимофеев принял активное участие в событиях 1917 г. Летом этого года он возглавил список кандидатов в члены Учредительного собрания от Приморской областной организации партии социалистов-революционеров. После 1917 г. продолжал жить в Хабаровске; его следы теряются на рубеже 1920‑х и 1930‑х гг.
В цитированном выше письме от 11 мая 1952 г. А. П. Косованов спрашивает М. К.: «Не встретили ли Вы в Иркутске Куртеева? Что с ним? Он, наверно, теперь профессор? Я видел его доцентом в Минусинске, он приезжал в Музей».
Константин Константинович Куртеев (1882–1937; расстрелян), литератор, журналист, экономист, действительный член Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, принимавший живое участие в его работе. Он редактировал газеты «Приамурье» (1911–1913) и «Приамурские ведомости» (1914–1916) и, явно симпатизируя левым настроениям (в юности примыкал к эсерам), определял либерально независимый облик «Приамурья». Азадовские знали, возможно, и его отца, также Константина Константиновича (1853–1918). Бывший народоволец Куртеев-старший работал кассиром в городской управе Благовещенска и редактировал несколько местных газет. В советское время Куртеев-младший пытался устроиться в разных городах (в том числе и в Иркутске); волна Большого террора накрыла его, судя по официальным данным, в Горьком27.
К числу знакомых принадлежал, видимо, и Исаак Леонтьевич Миллер (1884 – после 1940), редактор-издатель «Приамурской жизни», главной хабаровской газеты, составитель справочников. В общественной жизни Хабаровска 1910‑х гг. он играл заметную роль (член Хабаровского общественного собрания, Литературно-драматического общества, в котором участвовал Константин Иннокентьевич, и др.). После 1919 г. Миллер эмигрировал в Китай.
Что побудило К. И. и В. Н. Азадовских переехать на Дальний Восток? Среди причин, подтолкнувших их к этому шагу, не последней по важности была, видимо, ситуация вокруг их сына-гимназиста, оказавшегося в 1903–1904 гг. едва ли не в самой гуще иркутской общественной и политической жизни. Участие в сходках и митингах, причастность к агитационно-пропагандистской работе, наконец, просто общение с лицами, находившимися под постоянным наблюдением властей, – все это создавало для Марка реальную угрозу. Немаловажным было и другое обстоятельство – желание Константина Иннокентьевича упрочить материальное положение семьи. У родителей не было сомнений: их старший сын должен учиться дальше – получить университетское образование (это требовало определенных затрат).
К моменту окончательного переезда в Хабаровск Марк Азадовский уже вполне сформировался как убежденный революционер-народник; всеобщий освободительный порыв, захвативший его в начале столетия, как и пример его иркутских друзей и двоюродных братьев, полностью ушедших в революцию, вдохновлял юношу и стимулировал его убежденность в необходимости «реального дела», по крайней мере – агитационно-пропагандистской работы. Не удивительно, что, оказавшись в другом городе, он начинает искать знакомств и связей с единомышленниками.
В своем письме к Азадовскому от 11 мая 1952 г. А. П. Косованов вспоминал: «Первое наше знакомство в Хабаровске в городском училище. Вы, юный гимназист, пришли ко мне с листовками и предложили организовать подпольную работу с молодежью».
Приведем и другое свидетельство, не вызывающее сомнений в своей подлинности.
30 января 1914 г., желая поступить на Одногодичные педагогические курсы в Петербурге (см. главу VII), М. К. обратился к приамурскому генерал-губернатору с просьбой выдать ему свидетельство о политической благонадежности. В ответ канцелярия генерал-губернатора сообщила, что
по агентурным сведениям жандармского надзора Азадовский в 1907 и 1908 гг. считался в Хабаровске организатором военной организации по с.-р. программе, причем под его редакцией будто бы были выпущены три прокламации к войскам; ему же приписывалось участие в устройстве побегов политических заключенных28.
Подтверждением вышесказанному могут служить и материалы хабаровского розыскного пункта, оказавшиеся доступными после Февральской революции и опубликованные летом 1917 г. самим М. К. Речь в одной из этих публикаций идет о членах местной эсеровской организации (Окунев29, Пирогов, Родионов, Рычков и др.), выданных предателем и приговоренных в начале 1908 г. к каторжным работам на срок от 15 лет («дело одиннадцати»). Эта группа занималась в Хабаровске устройством беглых «политических» и отправкой их «в Россию» (то есть в европейскую часть России), и нет сомнений, что М. К., причастный, если верить официальному документу, к организации побегов, был связан с ее участниками. Документы хабаровской охранки, попавшие в его руки в мае – июне 1917 г., позволили выяснить фамилию предателя (Федор Белоусов), – до этого в революционных кругах возникали на этот счет другие предположения.
Как же удалось Азадовскому, активному участнику хабаровского подполья, избежать ареста, суда и каторги? Ответ на этот вопрос дает примечание, сделанное им в конце публикации 1917 г.:
Чтобы уяснить значение и размеры Белоусовской провокации, достаточно указать, что из всего состава хабаровской организации (считая активных деятелей) уцелело человек 5–6. Одни потому, что случайно в свое время не познакомились с Белоусовым или, познакомившись, он не знал их настоящей фамилии, – других спасло отсутствие во время ликвидации в Хабаровске30.
Одним из этих «пяти-шести» и был, по-видимому, Марк Азадовский. Другим, по нашему предположению, – местный художник-карикатурист В. В. Граженский (1883–1920), о судьбе которого известно главным образом из заметки о нем, помещенной в первом томе «Сибирской советской энциклопедии»; ее автором был М. К. Из этой заметки можно узнать, что Граженский служил в почтовой конторе, был уволен за участие во всеобщей забастовке (1905), примкнул к партии эсеров; устроившись на службу в Амурском обществе пароходства и торговли, «оказывал содействие побегам полит. каторжан с Амурской колёсной дороги»31.
Позволительно думать, М. К. и Граженский были участниками одних и тех же событий.
К числу хабаровских знакомых Марка Азадовского принадлежал также Николай Николаевич Блудоров (1842–190732) – поэт33, общественный деятель Забайкалья и Дальнего Востока, сотрудник читинских и владивостокских газет, подергавшийся в 1860‑е гг. арестам и тюремному заключению. Прослужив долгое время в провинции и на Сахалине, он провел последние годы своей жизни в Хабаровске, где и умер.
Блудоров был связан с революционно настроенной хабаровской молодежью. И. Н. Рычков, один из участников «дела одиннадцати», упоминает о нем в своей автобиографии, написанной в 1922 г.: