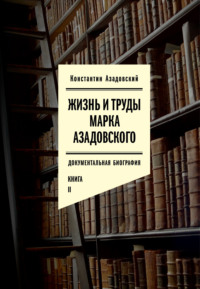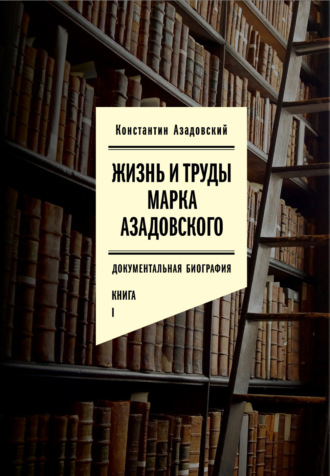
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I
Благодарю также сотрудников Отдела рукописей РГБ, Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, Государственного архива Забайкальского края и других сибирских архивов, дирекцию Российского музея истории русской литературы им. В. И. Даля и др.
Особая благодарность – Светлане Азадовской, самоотверженно делившей с нами все трудности и тревоги многолетней работы.
Глава I. Иркутск. Семья. Детство
Иркутск – родной город Марка Азадовского. «Реки Ангара и Кая, Байкал, Иркутск – места, где он родился и вырос»1. Он искренне любил этот край, всегда возвращался к нему в своих мыслях, изучал его историческое и культурное прошлое. И в течение всей своей жизни с гордостью называл себя «иркутянином» и «сибиряком».
Иркутск издавна выделялся среди других городов Российской империи, в том числе и сибирских, своим «европеизмом». Писательница Екатерина Авдеева, сестра братьев Полевых, автор книги «Записки и замечания о Сибири» (1837), отмечала, что «жизнь образованного класса в Иркутске была совершенно европейскою»2. И хотя иркутские воспоминания Авдеевой относятся к первым годам XIX в., ее впечатление подтверждается и более поздними свидетельствами. Авдеева отмечала:
Даже общая первоначальная образованность распространена в Иркутске больше, нежели во многих русских городах. Лучшим доказательством этого служит, что нигде не видала я такой общей страсти читать. В Иркутске издавна были библиотеки почти у всех достаточных людей, и литературные новости получались там постоянно. Чтение – лучший просветитель ума, и соединение его с бытом чисто русским издавна образовало в Иркутске общество, чрезвычайно оригинальное и вместе просвещенное. Там любят литературу, искренне рассуждают о разных ее явлениях и, могу прибавить, не чужды никаких новостей европейских3.
Много лет спустя, приводя в статье «Сибирская беллетристика тридцатых годов» различные сведения об Иркутске XIX в., М. К. сочувственно упомянет и мемуары Авдеевой4.
К концу XIX в. Иркутск переживал свой расцвет. «Иркутск – столица самостоятельной части Восточной Сибири, которая в высшей степени своеобразна, своеобразность страны должна была, конечно, означиться и на ее столице», – писал князь П. А. Кропоткин5, оказавшийся в Иркутске в начале 1860‑х гг. Железная дорога, соединившая Иркутск в 1898 г. с остальной частью России, упрочила положение этого города как крупного экономического и торгового центра. Иркутск быстро застраивался (особенно после пожара 1879 г., уничтожившего значительную часть города6); деревянные строения сменялись каменными домами. «Иркутск превосходный город, – восторгался А. П. Чехов, задержавшийся на неделю в столице Восточной Сибири в июне 1890 г. – Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы… <…> Он лучше Екатеринбурга и Томска. Совсем Европа»7.
Говоря о культурном облике Иркутска на рубеже XIX и XX вв., следует в первую очередь упомянуть о Восточно-Сибирском отделе Русского географического общества (ВСОРГО) с его музеем и замечательной библиотекой. Открытый в 1851 г., он сыграл, как известно, огромную роль в культурной истории Сибири; его делами занимались – в разные периоды – выдающиеся русские путешественники и исследователи: Р. К. Маак, П. А. Ровинский, А. П. Щапов, Г. Н. Потанин, Д. А. Клеменц (правитель дел ВСОРГО в 1890‑е гг.) и др.
Помимо ряда научных экспедиций и трудов, связанных с изучением Восточно-Сибирского края8, Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества осуществил ряд изданий, не утративших своего значения до настоящего времени; первым среди них были «Записки Сибирского Отдела Русского Географического общества» (1856), превратившиеся затем в «Труды» (1896). Наряду с «Трудами» Отдел издавал «Известия» (первый том вышел в 1870 г.).
Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества имел в своем распоряжении богатый музей, один из старейших в России, и библиотеку, формировавшуюся еще при участии декабристов: Н. А. Бестужева, С. Г. Волконского, Д. И. Завалишина, С. П. Трубецкого. Эта часть собрания Отдела погибла при пожаре 1879 г.
Особо надо сказать о газете «Восточное обозрение». Этот еженедельник, основанный в 1882 г. Н. М. Ядринцевым (1842–1894), исследователем Сибири, писателем и общественным деятелем, издавался поначалу в Петербурге, а с 1888 г. (год рождения М. К.!) – в Иркутске. На страницах «Восточного обозрения» появлялись статьи, посвященные истории, экономике, этнографии и культуре Сибири, сообщалось о научных экспедициях и путешествиях. Газета, которую с 1894 г. редактировал бывший народоволец И. И. Попов (1862–1942), была выразителем общественного мнения; в ней сотрудничали и многие политические ссыльные, среди них – Е. К. Брешко-Брешковская, В. Г. Богораз, Л. Б. Красин, П. Ф. Якубович, а в первые годы ХХ в. публиковал свои статьи Л. Д. Троцкий, сосланный в Восточную Сибирь и проживавший короткое время в Иркутске9.
«Восточное обозрение» прекратило свое существование в начале 1906 г.
Родители Марка Азадовского принадлежали к среде иркутского еврейства, весьма отдалившейся к концу XIX столетия от традиционного быта и талмудических предписаний. В 1880‑е гг. Иркутск стремительно заселялся евреями; если в 1877 г. в городе проживало всего 55 еврейских семейств, то к концу века их число приближалось уже к нескольким тысячам. Всероссийская перепись 1897 г. зафиксировала в Иркутской губернии 7480 человек иудейского вероисповедания, причем первую по численности группу составляли среди них ссыльные или потомки ссыльных10. Современный исследователь сообщает, что в конце XIX – начале ХХ в. еврейская колония в Иркутске стала «второй конфессиональной и третьей этнической группой в городе, достигая более 10% постоянного городского населения»11. Ядро этой группы составляли успешные предприниматели, купцы, коммерсанты; многие из них выделялись своей общественной активностью, занимались благотворительностью, избирались гласными городской думы и т. д. Среди иркутского еврейства было немало образованных людей (врачей, юристов, антрепренеров).
Заполняя в зрелые годы разного рода анкеты, М. К. сообщал о себе и своих родителях довольно скупо. «Родился в 1888 г. в г. Иркутске в семье мелкого чиновника горного ведомства, – указывал он, например, в «Кратком жизнеописании» (1945). – Детство прошло в крайне стесненной материальной обстановке, почти бедности (дед по отцу был переплетчиком; дед по матери, умерший задолго до моего рождения, – ссыльный). Отец первоначально занимал должность без чина и одновременно служил в театре – мать брала на дом шитье»12.
Далее мы попытаемся дополнить и отчасти дешифровать эту лаконичную анкетную запись.
Марк Азадовский родился 5 декабря 1888 г.: дата подтверждается документально и не вызывает сомнений. Учитывая, что разница между юлианским и григорианским календарем составляла в XIX столетии 12 дней, в современных справочниках следовало бы указывать: 5 (17) декабря. Однако всюду приводится иная дата: 18 декабря. Эта неточность восходит, по-видимому, к дате, которую многократно сообщал сам М. К.: в заполненных им анкетах, автобиографиях и жизнеописаниях (после 1917 г.) значится именно 18 декабря (в этот день он обычно принимал поздравления и ожидал гостей).
Марк был первенцем в семье Абрама и Веры Азадовских, сочетавшихся браком в октябре 1887 г. Мать, Вера Николаевна (до крещения – Вера Марковна), урожденная Тейман, родилась в 1870 г. Ее отец Марк (Мордухай) Тейман, в честь которого Марк и получил свое имя, характеризуется в «Жизнеописании» 1938 г. как «ссыльный поселенец, повстанец 1863 г.»13, а в другой, также поздней, записи – как «начетчик»14 (грамотный, начитанный человек). Марк Тейман прибыл в Сибирь из Литвы15, что вполне соответствует сведениям, исходящим от М. К. Ведь именно там, в западной части Российской империи, получили в XIX в. широкое распространение идеи Гаскалы (еврейского Просвещения), немало способствовавшей интеллектуальному раскрепощению евреев, их модернизации, обретению гражданских прав и т. д. Отдаляясь от своих «корней», часть еврейской молодежи все более тяготела к России, ее языку и культуре и постепенно ассимилировалась.
Марк Тейман умер, по-видимому, в начале 1880‑х гг. («…задолго до моего рождения», сообщает М. К.). О его жене и семье сведений не имеется, но можно с уверенностью предположить, что их жизнь не отличалась довольством.
У Веры Тейман было два брата и младшая сестра (Сара). Старший брат Соломон (?–1942), «домовладелец в Иркутске»16, имел пятерых сыновей17 и двух дочерей. Что касается второго брата Веры Николаевны, то о нем известно, что его звали Наум и он занимался коммерцией (торговал продуктами, гвоздями, мылом и пр.). В 1900‑е гг. он проживал в Иркутске – в доме Давида Осиповича (Иосифовича) Азадовского (1870–1935)18; в 1910‑е гг. обосновался в Благовещенске19. Сведений о его судьбе не обнаружено. Жена его Лидия Константиновна (в 1940‑е гг. жила в Норильске) поддерживала отношения с М. К. вплоть до 1950‑х гг.
В «Жизнеописании» 1938 г. М. К. сообщал:
Два брата матери работали в ремесленных мастерских, позже мелкими служащими в частных фирмах, но затем постепенно выходили на более самостоятельный путь, однако, стесненные в правах как евреи, занимались по преимуществу коммерцией20.
Сара Тейман (1874–1947) сочеталась браком с хабаровчанином Ринальдом Лукичом (Лукьяновичем) Стрижевским21, начальником (с 1899 г.) почтовой станции и телеграфа при вокзале и пристани на Уссурийской железной дороге (окраина Хабаровска), впоследствии – служащим на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД)22. В середине 1930‑х гг. вернулась вместе с мужем из Харбина в СССР. Умерла в Иркутске.
В. Н. Азадовская прожила долгую жизнь и умерла в Иркутске в 1950 г. Незаурядная женщина, волевая и властная, она была главой и опорой семьи Азадовских (мы не раз встретимся с ней на страницах книги). В цитированном выше «Кратком жизнеописании» сообщается, что после переезда на Дальний Восток (начало 1900‑х гг.) Вера Николаевна «стала работать в качестве представителя фирмы по продаже швейных и пишущих машин, пианино и проч.23, а также в качестве страхового агента»24.
В одном из поздних писем к сыну (от 21 октября 1945 г.), как бы подводя итог прожитой жизни, Вера Николаевна писала:
Ищу свои проступки. Работала для мужа и детей добросовестно, любила мужа и детей больше всего на свете, чести своего мужа и детей, даже мысленно, никогда не оскорбила. – Так в чем же моя вина? Мой характер? Но ведь ты же, мой дорогой, знаешь сколько мною пережито за все мои годы. С 15-тилетнего возраста борьба за существование. Откуда же быть достойному характеру. Ну, ворчу, ну – кричу! Но ведь подлости-то никому не сделала. Может быть, в том-то и вся моя вина, что на компромисс со своею совестью никогда не шла и не пойду! (88–36; 39 об.)
Отец Марка, Абрам Иосифович (после 1891 г. – Константин Иннокентьевич) Азадовский, был сыном иркутского мещанина Иосифа (Осипа) Абрамовича Азадовского (1841–1897)25, занимавшегося переплетным ремеслом26. Иосиф Абрамович был женат дважды; одну из его жен звали Хана (Геква-Хана), но она ли была бабушкой Марка, неизвестно.
Абрам Азадовский родился в 1867 г. в Чите, но вскоре его родители покинули город, обосновавшись в Иркутске27. Он учился (предположительно в 1879–1882 гг.) в иркутском шестиклассном Техническом училище (в 1889–1921 гг. – Промышленное механико-техническое училище), куда могли поступить лица всех сословий (независимо от вероисповедания) в возрасте от 10 до 13 лет, однако курса не кончил: «Вышел из 3‑го класса»28 (в одном из поздних писем В. Н. Азадовской упоминается о его пребывании «в четвертом классе»29). Большинство выпускников Технического училища трудились, окончив учебу, в горной отрасли. Этой участи не избежал и отец Марка. Впрочем, о роде его занятий в 1882–1891 гг., то есть после выхода из третьего или четвертого класса Технического училища, точных сведений не обнаружено. Можно предположить, что цитированные выше слова Марка Константиновича («первоначально занимал должность без чина и одновременно служил в театре») относятся именно к этому периоду.
В 1891 г. цеховой Абрам Азадовский принял православие и стал именоваться Константином Иннокентьевичем; одновременно была крещена и Вера Тейман, его жена30. Что побудило Азадовских к этому шагу: самоощущение людей, захваченных «современными» идеями, желание вырваться из консервативной еврейской среды или же необходимость устроиться на государственную службу, чтобы содержать семью? Или уже тогда, в начале 1890‑х гг., родители Марка ощущали себя настолько «ассимилированными», что переход в православие воспринимался ими как формальность? Затрудняемся ответить. Можно только сказать, что еврейское происхождение никак не сказалось на судьбе Марка Азадовского, изначально связанного с русской культурной традицией. Записанный в младенчестве православным (а в советские годы – «русским»), он никогда не придавал этой анкетной графе особого значения и вряд ли задумывался о своем «еврействе» – разумеется, до тех пор, пока не оказался жертвой антисемитской кампании 1949 г.
Приняв православие, Константин Иннокентьевич смог получить «должность»: с 1891 по 1901 г. он служит в золотосплавочной лаборатории Иркутского горного управления, где исправляет различные обязанности («делопроизводителя», «архивариуса» и др.31). Подвергнутый в 1897 г. испытанию в науках в Педагогическом совете Иркутской гимназии, он «показал познания вполне удовлетворительные» и получил соответственное свидетельство, позволившее ему дослужиться (в 1901 г.) до чина коллежского регистратора. В 1896 г. был награжден серебряной медалью в память императора Александра III. В конце 1900 – начале 1901 г. сопровождал в Петербург караван с золотом (в качестве помощника начальника каравана); представляется, что это было ответственное задание. Осенью 1901 г. назначен, «согласно желанию», письмоводителем при окружном инженере Приморского горного округа и, возможно, уже тогда становится жителем Приморского края. В январе 1905 г. произведен в губернские секретари, а в феврале того же года переведен на службу во Временную ревизионную комиссию в должности «счетного чиновника». В апреле 1905 г. награжден орденом Св. Станислава 3‑й степени. В «аттестате», кроме того, отмечено, что К. И. Азадовский «случаям, лишающим его права на получение знака отличия беспорочной службы и ордена св. Владимира, за 35 лет32 не подвергался».
Тогда же, то есть в 1905 г., расставшись с государственной службой, Константин Иннокентьевич Азадовский, «чиновник в отставке», переходит в Северное страховое агентство (туда же поступила на службу и Вера Николаевна). Семья окончательно покидает Иркутск и переезжает в Хабаровск. В качестве страхового агента ему часто приходилось разъезжать по Амурской области, и, судя по воспоминаниям современников, эта работа была ему более по душе, нежели необходимость «присутствия». Константин Иннокентьевич тяготел к искусству, особенно к театру, и старался развивать эту склонность в своих детях. В Иркутске и Хабаровске он охотно участвовал в любительских спектаклях, исполняя не только второстепенные, но и главные роли. Правда, относительно его «службы» в театре, о чем упоминает М. К., документальных свидетельств не обнаружено; сохранилась лишь групповая фотография участников спектакля «Ревизор», сыгранного в зале иркутского Общественного собрания 9 февраля 1892 г.33 (см. илл. 2).
11 мая 1952 г. педагог А. П. Косованов34, близко знавший семью Азадовских по Хабаровску второй половины 1900‑х гг., писал М. К.:
Константина Иннокентьевича я часто вспоминаю. Это был добрейшей души человек, поклонник прекрасного в жизни и искусстве. Мы с ним близко соприкоснулись в Южно-Уссурийской тайге на р. Личихезе. Он дал мне прозвище «повар с Личихезы». Они с моим папашей35 искали золото, их жулики обманывали. Я варил на костре обеды, чаи и завтраки.
К. И. Азадовский умер в Благовещенске в ночь на 1 декабря 1913 г. от разрыва сердца. В некрологе, ему посвященном, отмечалось, что он был известен Хабаровску «как отзывчивый общественный деятель»36.
У Константина Иннокентьевича был брат Давид и четыре сестры (Лия, Бейля, Фрида (Фрейда), Феодосия). Что известно о них?
Старшую сестру звали Лия (Лиза, Елизавета) Иосифовна (Осиповна) Азадовская (1860–1930). Она вышла замуж за Абрама Левенсона (1854–1928), сына купца Соломона (Залмана) Левенсона (1810–1896), разбогатевшего на торговле зерном, и родила ему пятерых сыновей (Гдалий, Михаил, Гавриил, Соломон, Иосиф) и трех дочерей (Шима, Елена, Любовь). Деятельность А. С. Левенсона протекала вначале главным образом на его родине (в селе Качуг Верхоленского уезда Иркутской губернии), однако в конце 1890‑х гг. он переселился с семьей в Иркутск, где обзавелся собственностью – домом с усадьбой37. Среди сыновей А. С. и Е. И. Левенсонов наибольшую известность получил Михаил (Меер) Левенсон (1888–1938). Активный революционер, член иркутской боевой организации левых эсеров, он провел семь лет во Франции (1910–1917); посещал лекции в Сорбонне; в 1917 г., по возвращении из эмиграции в Россию, стал членом президиума Петросовета и ВЦИК. В 1918–1920 гг. работал в Иркутске, входил в иркутский Военно-революционный комитет (подпись М. А. Левенсона стояла под решением о расстреле Колчака38). В 1920 г. Михаил с семьей переезжает в Москву, где вплоть до ареста занимает видные посты в Народном комиссариате внешней торговли (в 1928–1934 гг. руководит торгпредством СССР в Италии). Арестованный в октябре 1937 г. как участник «антисоветской троцкистской диверсионно-террористической организации», Михаил Левенсон был расстрелян 22 августа 1938 г. по решению Особого совещания при НКВД СССР. Его жена Розалия Савельевна (урожд. Садовская; 1889–1950), врач по профессии, провела пять лет в сталинских лагерях и еще пять лет на «свободном поселении». Ее освободили в 1947 г., лишив до конца жизни права проживания в крупных городах39.
О Гдалии и Иосифе Левенсонах, младших братьях Михаила, речь пойдет в следующей главе. Упомянем также Шиму Левенсон (в замуж. Брегель; 1882–1965), известную своим активным участием в сибирском сионистском движении и близостью с эсером-боевиком и видным сионистом М. А. Новомейским (1873–1961), и Любовь Левенсон (1895–1942), сочетавшуюся браком с иркутянином, юристом Рафаилом Михайловичем Бенциановым (1887–1947), – отношения с ними Марк Константинович поддерживал еще в 1930‑е и 1940‑е гг., навещая обоих в Москве40.
Фрида (Фрейда) Азадовская (1878 – начало 1930‑х) сочеталась браком (около 1900 г.) с жителем Кударинской волости Селенгинского округа Забайкальской области по имени Зувул Лейбов Гейман, приписанным к крестьянскому сословию. В 1898 г. у них родился сын Иосиф (умерший спустя девять месяцев); в 1902 г.– дочь Таубе41. Других сведений об этой линии Азадовских обнаружить не удалось.
Не избежал репрессий и Соломон Абрамович Левенсон (1897–1938), занимавший в конце своей недолгой жизни должность ответственного инструктора политуправления Наркомата водного транспорта СССР. Расстрелян в 1938 г. Его сын, Дмитрий Соломонович Левенсон (1929–2006), стал юристом, членом Московской коллегии адвокатов, хорошо известным в кругах столичной интеллигенции42.
Бейля (Бейла) Иосифовна Азадовская сочеталась браком с Израилем Евсеевичем Волыновым (?–1916)43, политическим ссыльным; у них было пять дочерей – Лея (Лина), Ревекка, Эсфирь, Надежда, Евгения44 и двое сыновей – Абрам и Евсей. С семьей иркутских Волыновых, в особенности с Абрамом Израилевичем (1895–1975)45, Азадовских связывали многолетние отношения.
Младшая сестра Константина Иннокентьевича – Феодосия Иосифовна Азадовская (1880 – после 1940) родилась в Иркутске и училась в женской городской школе. В начале 1900‑х гг. она вышла замуж за Алексея Ивановича Сарманова (1875–1937), приказчика и управляющего торговыми домами в Москве и одновременно – учредителя и члена ряда обществ и комитетов в русском Харбине (в том числе Общества изучения Маньчжурского края), где он и его семья обосновались задолго до революции46. В 1930‑е гг. работала в харбинской общественной больнице, основанной в память доктора В. А. Казем-Бека (1893–1931), членом правления и казначеем которой был А. И. Сарманов. После смерти мужа жила в Шанхае у своей дочери Таисии (в замужестве Филипповой)47.
М. К. поддерживал отношения с Феодосией Сармановой и до, и после 1917 г. и, насколько можно судить, не скрывал своего родства с ней. Так, в одной из анкет, заполненной им в 1938 г., в графе «Имеете ли родных за границей» он ответил: «Сестра отца в Харбине (Ф. Сарманова). – Жила там до революции»48. С ее мужем, если верить «Жизнеописанию» 1938 г., он «ни разу не встречался даже и до революции»49. В автобиографии, представленной в марте 1939 г. в Ленинградское отделение Союза советских писателей, М. К., касаясь вопроса о своих поездках за границу, уточняет:
…бывал и в Харбине (во время студенчества), впрочем, последний тогда не был еще «заграницей» – и где и теперь живет моя тетка, выехавшая туда еще задолго до революции50.
А уже после войны (в мае 1952 г.), заполняя личную карточку члена Союза советских писателей, М. К. отрицательно ответил на вопрос: «Живет ли кто-либо из родственников за границей»51. Вероятно, все связи были оборваны в 1930‑е гг. В письме к сыну Вера Николаевна сообщала 17 марта 1951 г.:
О Вале Шленникове52 я знала, что во время войны он с семьей своей жены работал в Краснодаре. Но т<ак> к<ак> в Краснодаре тоже побывали немцы, то мы были уверены, что они погибли! <…> М<ожет> б<ыть>, через него можно было бы что-нибудь узнать о тете Оле (О. Г. Азадовская. – К. А.) и тете Феше (Ф. И. Сарманова. – К. А.)? Ну теперь уже ничего не поделаешь! Не судьба, значит (89–6; 37–37 об.).
Наиболее яркой фигурой среди близких родственников М. К. был, безусловно, Давид Осипович Азадовский, младший брат Константина Иннокентьевича, – он отличался разнообразными способностями, в частности предприимчивостью. Долгое время жил в Качуге, где общался с политическими ссыльными53. Занимался торговлей (хлебом и другими товарами). Упоминание о нем содержится в мемуарных записках Р. З. Марголина54, отбывавшего в тех местах ссылку: «В деревне Качуг лавочник Азадовский имел очень приличные обороты и также не брезговал скупкой хлеба»55. На протяжении жизни Давид Осипович неоднократно менял род занятий: был комиссионером, антрепренером и т. п. В 1919–1920 гг. перебрался вместе с семьей из Иркутска в Харбин и, поселившись по адресу Полицейская ул., 36, стал владельцем конфетно-шоколадной фабрики. В литературе, посвященной Харбину 1930‑х гг., упоминаются кафе-кондитерские, на которых красовалась фамилия «Азадовский», например в Новом Городе, напротив известного универмага Чурина, или в Модягоу (аристократический район старого Харбина) на Гоголевской ул., 5956. Давид был близок с семьей брата, в особенности дружил с Марком (сохранились фотографии, на которых они изображены вместе). М. К. поддерживал с ним отношения (письменные) еще в конце 1920‑х гг. По причине, до сих пор не вполне понятной, Давид Азадовский покончил с собой (выстрелом из револьвера) в Харбине 13 февраля 1935 г.57, оставив кондитерское производство своей вдове Ольге Григорьевне Азадовской (урожд. Тренор; 1883 – после 1943)58, которая и продолжала вести дела. Еще в начале 1940‑х гг. она находилась в Харбине, однако сведения о ее дальнейшей судьбе отсутствуют.
В октябре 1912 г., когда Вера Николаевна и Константин Иннокентьевич, родители Марка, отмечали 25-летие совместной жизни, их ближайшими родственниками, судя по сохранившимся приветственным телеграммам, были Давид и Ольга Азадовские (из Качуга), Абрам и Елизавета Левенсоны (из Иркутска) и семья Стрижевских (из Хабаровска) (98–9).
Помимо Марка у Азадовских было семеро детей59. Одна из записей в книге Иркутской синагоги свидетельствует, что в марте 1891 г. у иркутского цехового Абрама Иосифовича Азадовского родилась дочь Роза; девочку успели окрестить60, но о ее судьбе ничего не известно – очевидно, умерла в младенчестве.
В 1894 г. появилась на свет Лидия (1894–1920) – сестра Марка. Талантливая и красивая девушка, она долго искала (после окончания Благовещенской, а затем Хабаровской женской гимназии) свое подлинное призвание, пробовала свои силы на артистическом поприще61, пыталась писать стихи; училась в Петербурге и Москве. В 1913 или 1914 г. Лидия вышла замуж за своего сверстника, с которым дружила, еще будучи гимназисткой, – Зелика (Залмана? Соломона?) Райцына, уроженца Никольска-на-Амуре62. С семьей Райцыных был дружен и Марк63.
В конце 1917 – начале 1918 г. Лидия оказалась в Томске. Сохранилось прошение Л. К. Азадовской, бывшей слушательницы Московских педагогических курсов им. Д. И. Тихомирова, о зачислении ее вольнослушательницей на филологический факультет; место и дата: Хабаровск, 26 сентября 1917 г.64 Однако в другом заявлении, написанном в Томске 31 октября 1917 г., Лидия просит принять ее в число вольнослушательниц на юридический факультет65; прошение было удовлетворено. А через несколько месяцев, 13 марта 1918 г., все еще находясь в Томске, вольнослушательница первого курса юридического факультета Л. К. Азадовская сообщает ректору о том, что вынуждена «по семейным обстоятельствам» прекратить свое образование66. Чем было вызвано это внезапное решение, неизвестно67. Есть неподтвержденные сведения о том, что в 1919 г. Лидия какое-то время находилась в Омске68. В 1920‑е гг. она жила в Харбине, работала учительницей в начальных классах мужской гимназии В. Л. Андерса. Погибла 31 июля 1920 г. во Владивостоке при трагических обстоятельствах69. Сохранившиеся документы воссоздают ее облик – мятущейся, порывистой молодой женщины, искавшей свое место в жизни и не раз прибегавшей к советам старшего брата. В одном из писем к нему (1914 или 1915 г.) она признавалась: