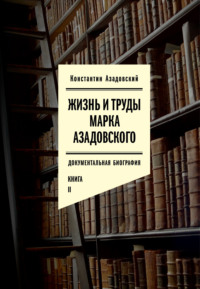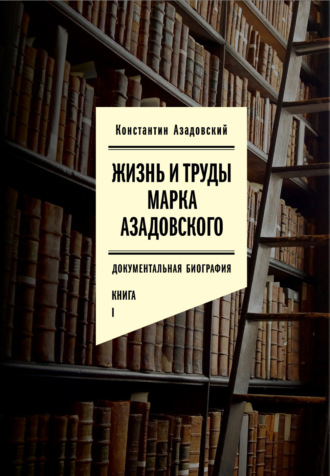
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I
От экзамена по иностранному языку М. К. был освобожден как выпускник Санкт-Петербургского университета.
В мае 1915 г. М. К. получает свидетельство об окончании курсов, предоставлявшее ему «права, указанные в ст<атье> 4 отд<еления> III Закона 3 июля 1914 г. об установлении звания учителя средних учебных заведений…»6 Одновременно, 27 мая 1915 г., Г. Г. Зоргенфрей сообщает попечителю Петроградского учебного округа о том, что «группу русского языка окончили 9 человек, из коих на первое место должен быть поставлен Азадовский, лучший по преподаванию, очень пригодный для старших классов. Он будет готовиться к ученой карьере и хочет остаться в столице»7. Совершенно ясно, что за несколько месяцев пребывания на курсах М. К. сумел проявить свои способности; старшие наставники и коллеги смогли по достоинству оценить его эрудицию, самостоятельность мышления и жизненные установки.
Одновременно с занятиями на курсах М. К. начинает свою преподавательскую деятельность (вернувшись в Петербург, он находился в стесненных обстоятельствах и, несмотря на ежемесячную стипендию, которую получал на курсах, нуждался в дополнительном заработке.) Кроме того, будучи стипендиатом, он обязан был по окончании курсов отработать не менее года в одном из учебных заведений (по согласованию с попечителем Учебного округа). В начале 1915 г. ему удается завязать отношения с дирекцией гимназии и реального училища Я. Г. Гуревича – известного тогда в столице частного учебного заведения, носившего имя ее многолетнего директора. 15 февраля 1915 г. М. К. письменно обращается к директору гимназии Я. Я. Гуревичу (сыну ее основателя) и просит о предоставлении ему «уроков логики и психологии в старших классах»8. Прошение написано от лица «окончившего Университет с дипломом первой степени»; о занятиях на Одногодичных курсах не упоминается.
Проявив интерес к просителю, гимназия возбуждает перед попечителем Петроградского учебного округа ходатайство о предоставлении Азадовскому уроков философской пропедевтики. Попечитель запрашивает по этому поводу мнение Г. Г. Зоргенфрея, и тот отвечает (19 апреля 1915 г.), что «к удовлетворению вышеизложенного ходатайства <…> препятствий не встречается»9. Так началась служебная деятельность М. К.
«Философской пропедевтикой» назывался в то время курс, предназначенный для учеников старших гимназических классов и представлявший собой введение в различные области гуманитарного знания – психологию, логику, этику, эстетику и т. д. Трудно сказать, почему М. К. согласился преподавать этот курс, столь далекий от его основных интересов, но, видимо, это было вызвано необходимостью.
Предположительно в это время он знакомится с Б. М. Эйхенбаумом, преподававшим в гимназии Гуревича русскую словесность. Конечно, их знакомство могло состояться и ранее: выдержавший весной 1913 г. экзамен по славянско-русскому отделению Петербургского университета, Эйхенбаум, как и М. К., был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. В начале 1915 г. он был уже хорошо известен как литератор; его статьи появлялись в широко читаемых столичных журналах, таких как «Заветы», «Русская мысль», «Северные записки».
В гимназии Гуревича М. К. преподавал недолго: он вел занятия до лета 1915 г., а осенью, вернувшись из Сибири, подал прошение об увольнении и в октябре был освобожден от «пропедевтики». Вряд ли он сожалел об этом, тем более что к тому времени уже был принят на должность «словесника» в двух других учебных заведениях Петербурга – Шестой гимназии и Коммерческом училище.
Шестая мужская гимназия (ее полное название того времени – Петроградская Шестая наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича мужская гимназия) находилась на Чернышевой площади (ныне – площадь Ломоносова), у Чернышева моста; в том же здании располагались с 1911 г. и Одногодичные курсы10, с которыми гимназия была тесно связана, поскольку ее директором был Г. Г. Зоргенфрей, а преподавателем русского языка и словесности – Н. С. Державин. Это учебное заведение считалось привилегированным; в 1912 г. ему было присвоено имя наследника цесаревича (сына Николая II). Вскоре после начала войны в гимназии разместился лазарет для раненых русских воинов, также получивший имя наследника и великого князя.
Среди воспитанников Шестой гимназии можно найти немало известных лиц. Так, в 1902 г. ее закончил И. И. Мещанинов (1883–1967), известный в будущем лингвист и археолог, действительный член АН СССР (М. К. окажется в 1930‑е гг. его близким сотрудником). Встречаются в списке выпускников и титулованные особы (герцог Лейхтенбергский, князь Голицын, барон Дистерло).
В 1911–1914 гг. учащиеся Шестой гимназии издавали собственный литографированный журнал «Северное сияние»; с 1914 г. журнал издавался типографским способом («на правах рукописи»).
Сближение М. К. с Шестой гимназией началось еще весной 1915 г. Об этом свидетельствует его «пробный» доклад «Этнография в средней школе», прочитанный перед гимназистами 12 марта 1915 г. Сохранившиеся «Тезисы» этого выступления имеют принципиальное значение. М. К. впервые предстает здесь как сложившийся педагог и ученый, не мыслящий преподавание русской словесности вне «родиноведения».
Приводим эти «Тезисы» полностью:
1) Этнография важна как наука, объединяющая циклы гуманитарных и естественных наук. Помимо этого, этнография имеет глубокое общеобразовательное значение как наука, знакомящая с основами народной жизни. Поэтому она должна быть введена в число предметов средней школы.
2) Изучение гуманитарных наук в средней школе должно быть поставлено в связь с изучением этнографии.
3) В частности, преподавание словесности немыслимо без этнографии.
4) Помимо общего этнографического курса и сообщения ученикам этнографических сведений при прохождении курса (гуманит<арного> харак<тера>) необходимо направить учащихся на самостоятельные работы в области этнографии (записи, наблюдения и пр.).
5) Также занятия в связи с частым устройством экскурсий дадут возможность ввести в изучение гуманитарн<ых> наук наглядность, столь способствующую успеху изучения естеств<енных> наук.
6) «Истинная школа должна преследовать не только утилитарные цели, но и этические. Она должна стремиться к выработке здравых понятий о жизни и высоких идеалов».
Этнография, знакомя с основами народной жизни и народного труда, с одной стороны, и с постепенным ростом человеческой культуры, – с другой, неизбежно сумеет возбудить в учащихся и глубокую любовь и уважение к родному народу и веру в человека и его труд. С этой точки зрения, введение этнографии в курс средней школы представляется особенно желательным и важным.
7) С помощью этнографии педагог сумеет ввести учащихся в курс истинно-научных интересов и ознакомить с методами научной работы.
8) Изучение этнографии на основе самостоятельных наблюдений учащихся не должно стоять одиноко. Наоборот, оно может быть вполне плодотворно только тогда, когда оно будет поставлено в связь с общей организацией изучения родины в средней школе. Такая организация является очередной задачей педагогов.
9) Привлечение учащихся ср<едней> школы к доступному их силам изучению родины имеет своей задачей не только педагогические цели, но и глубоко общественные. Родиноведение должно явиться одним из основных заданий новой школы (1–7; 2 об.).
Думается, что пафос этого доклада не оставил слушателей равнодушными и во всяком случае обратил на себя внимание Г. Г. Зоргенфрея, чья поддержка немало способствовала тому, что с осени 1915 г. М. К. получает место преподавателя словесности в Шестой гимназии.
О его работе в этой петроградской гимназии сохранилось немного сведений, но и того, что известно, достаточно, чтобы сделать вывод: молодой учитель стремился по возможности осуществить намеченную им в «Тезисах» «родиноведческую» программу. Так, он предлагал устроить в январе 1917 г.– совместно с учениками пятого класса – выставку по народной словесности. Желая привлечь к этой работе членов родительского комитета, он выражал готовность выступить перед ними с докладом по данному вопросу11.
Среди коллег М. К. по Шестой гимназии следует выделить Михаила Николаевича Куфаева (1888–1948), виднейшего впоследствии библиографа, книговеда и историка русской книги. Одногодок М. К., окончивший в 1911 г. Историко-филологический и Археологический институты в Петербурге, Куфаев преподавал в 1910‑е гг. русскую словесность в столичных учебных заведениях и, видимо, уже тогда проявлял интерес к «психофизиологии библиофильства»12. В Шестой гимназии он вел, кроме того, исторический кружок. Можно предположить, что понимание библиологии и библиографии как отраслей филологической науки у Азадовского и Куфаева решительно не совпадало, но любовь к книге и собирательству не могла не сблизить молодых преподавателей. Следует добавить, что Шестая гимназия обладала прекрасной библиотекой, и многие преподаватели участвовали в ее комплектовании; вопрос о приобретении того или иного издания обсуждался, как правило, на заседаниях Педагогического совета.
Зато со старшим своим сослуживцем Николаем Севостьяновичем Державиным у М. К. сложились в ту пору деловые и при этом доверительные отношения. Ученый-славяновед, опубликовавший уже в начале ХХ в. несколько работ по болгаристике, а также методике преподавания русского языка и литературы в средних учебных заведениях, Державин был тогда заметной фигурой в столичном филологическом мире и, видимо, одним из тех, кто решительно поддержал М. К. в его первых шагах на научном поприще. В течение последующих десятилетий М. К. и Державин поддерживают отношения, обмениваются своими работами. В декабре 1927 г., когда Державин праздновал свое 50-летие, М. К. послал ему из Москвы несколько приветственных слов. «В сутолоке Съезда13, между двумя заседаниями, – говорилось в его коротком поздравительном письме, – трудно сосредоточиться, чтобы успеть и суметь написать все, что хотелось бы. За время нашей связи ведь много накопилось – Вы хорошо знаете мои чувства»14.
А для сборника к 50-летию научной деятельности Н. С. Державина15 М. К. готовил «заметку» (так ее называет Л. В.16) «Историческая справка о термине „народность“». Издание, запланированное на 1948 г., не состоялось.
М. К. был близко знаком и с сыном Н. С. Державина, впоследствии переводчиком, сценаристом, литературным и театральным критиком, сотрудничавшим с В. Э. Мейерхольдом и близким в 1920‑е гг. к кругу М. А. Кузмина. К. Н. Державин (1903–1956) учился в той же Шестой гимназии, и М. К. горячо поддерживал своего питомца в разного рода литературно-театральных начинаниях – помогал ему, например, при создании ученического рукописного «журнала литературы и искусства», возникшего на рубеже 1916 и 1917 гг. под названием «Вы бывали в Порто-Рико? Танцевали контраданс?» (сохранился единственный номер17). А в январе 1917 г. М. К. и Костя Державин совместно поставили в Шестой гимназии комедию Гоголя «Женитьба» (спектакль в пользу Сиротского школьного фонда)18.
Переписка и деловая связь М. К. со старшим Державиным продолжалась вплоть до второй половины 1940‑х гг. Впрочем, с годами он все более отдаляется от своего бывшего сослуживца. А в последний период жизни М. К. их отношения совсем прекратились19.
Учительствуя в столичной гимназии и пытаясь привить своим подопечным «вкус» к старине и народному творчеству, М. К. знакомил их, в частности, с живыми и подлинными носителями русского фольклора. Приведем несколько эпизодов.
20 ноября 1915 г. на вечернем заседании Отделения этнографии Русского географического общества состоялось выступление О. Э. Озаровской, недавно вернувшейся из поездки по Архангельской губернии; собирательница фольклора и его исполнительница, уже получившая к тому времени немалую известность, готовилась рассказать о материале, собранном ею на берегах Пинеги, о свадебных обрядах и песнях Русского Севера. Озаровская привезла с собой «в столицы» сказительницу (песенницу и сказочницу) Марью Кривополенову, жительницу Пинежского уезда Архангельской губернии, чьи «старины» служили живой иллюстрацией того, о чем рассказывала Озаровская (ее доклад назывался «Из поездки по северу России»)20. На вечере в Демидовом переулке (т. е. в новом здании Русского географического общества) Кривополенова, как значилось в объявлении, должна была исполнить сказание об Иване Грозном, былину «Добрыня Никитич» и духовный стих «Вознесение», а также прочитать «скоморошину» под названием «Кастрюк»21. Очевидно, что М. К., в то время уже «член-сотрудник» Русского географического общества (см. главу VIII), не мог пропустить такого события. При этом ему казалось желательным, чтобы на выступлении Озаровской и Кривополеновой присутствовали также его воспитанники – ученики 5‑го класса Шестой гимназии (разрешение было дано С. Ф. Ольденбургом и Ю. М. Шокальским)22. Видимо, с этого вечера в Русском географическом обществе и берет начало дружба М. К. с Озаровской, продолжавшаяся до последних лет жизни Ольги Эрастовны23.
В начале 1917 г. М. К. пытался устроить в Шестой гимназии фольклорную выставку. В связи с этим он писал фольклористу и этнографу Б. М. Соколову (1889–1930), с которым недавно познакомился:
К Вам у меня маленькая просьба. Я устраиваю в гимназии с учениками выставку народной словесности. Быть может, у Вас имеются дубликаты фотографий, помещенных в Вашей книге24. Фотографии певцов, сказочников, моментов свадебного ритуала и т. п. Словом, всего, что касается до фольклора. Если бы Вы нашли возможность пожертвовать их или дать на время, я был бы очень благодарен Вам25.
Помимо Шестой гимназии М. К., окончив Одногодичные курсы, устраивается в Коммерческое училище в Лесном. К прошению от 9 мая 1915 г.26 он присоединяет свой Curriculum vitae. Этот текст, отражающий начальный период его научной жизни (1911–1915), содержит ряд важных уточнений к тому, что уже сказано выше:
Окончил классич<ескую> гимназию в Иркутске весной 1907 г. Во время пребывания в Университете я занимался главным образом в семинариях проф<ессора> Шляпкина и ак<адемика> Шахматова, интересуясь преимущественно вопросами этнографии и уделяя особое внимание изучению народной словесности и языка.
Кроме специальных и научных занятий я интересовался также вопросами родиноведения и принимал близкое участие в «Сибирском научном кружке» (где исполнял последовательно должности секретаря и библиотекаря), а также и в деле организации научных экскурсий сибирского студенчества для изучения родного края. Лично мною выполнен ряд этнографических и археологических работ, поступивших в Музей антропологии и этнографии Императорской Академии наук27. Деятельность свою в этом направлении я продолжал и по окончании Университета в качестве действительного члена Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. Летом 1911 года мной была предпринята специальная поездка в Финляндию для ознакомления с постановкой дела изучения родины28.
Благодаря поддержке Академии наук я получил возможность осуществить некоторые из намеченных еще в Университете планов, и в начале 1914 года по поручению и на средства Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук мною была предпринята трехмесячная поездка по казачьим селам Амурской области для собирания произведений народного творчества и диалектологических материалов.
Краткий отчет о поездке напечатан в Отчете И<звестий> А<кадемии> Н<аук> за 1914 г. и в местных газетах (в сокращении) – доклад, читанный мною в заседании историко-археологического отделения Приамурского отдела И<мператорского> Р<усского> Г<еографического> О<бщест>ва на тему «Археологические находки по р. Амуру» (перепечатан в «Изв<естиях> Имп<ераторского> Арх<еологического> О<бщества>»).
Часть собранного материала печатается в журнале И<мператорского> Р<усского> Г<еографического> О<бщества> «Живая Старина», остальное готовится к печати.
По окончании Университета я был оставлен по кафедре истории русской словесности, но, желая заняться также и педагогической деятельностью, подал прошение о зачислении меня слушателем Одногодичных педагогических курсов при Петроградском Учебном округе М<инистерства> Н<ародного> Пр<освещения>. Но поступить на курсы в том же году я не смог, так как ряд тяжелых обстоятельств личной и семейной жизни (болезнь, смерть отца) не позволили мне приехать из Сибири в Петроград до осени прошлого года.
За время пребывания на Педагогических курсах я занимался в группах, проводимых В. А. Келтуялой (при 3‑м Реальном Уч<илище>) и Н. С. Державиным (при 6‑й гимназии). В последней группе мной был прочитан доклад на тему «Этнография в средней школе», который, если позволит время, предполагаю напечатать, в 3‑м же Реальном Училище29 мной были даны пробные уроки30.
Спустя несколько дней после подачи прошения М. К. было предложено «пожаловать для переговоров» к директору училища Г. Н. Бочу31. Переговоры состоялись 14 мая, и результат их, судя по всему, оказался для претендента благоприятным. Осенью 1915 г., вернувшись в Петроград, он приступает (с 15 октября) к преподаванию в Шестой гимназии и одновременно – в Коммерческом училище.
Коммерческие училища, возникшие в России еще в XIX в., являлись средними учебными заведениями. Курс обучения (в начале ХХ в.) составлял восемь лет; его программа включала в себя общеобразовательные и специальные дисциплины. К первым относились словесность, математика, искусство (рисование, лепка и др.); ко вторым – товароведение, политическая экономия, законоведение. Выпускники училищ получали право поступать в высшие коммерческие и технические учебные заведения.
Восьмиклассное Коммерческое училище в Лесном открылось в сентябре 1904 г. В попечительский совет, коего роль была в то время достаточно весома, входили уважаемые и широко известные впоследствии лица: инженер-кораблестроитель К. П. Боклевский (глава совета), естествовед, педагог и методист В. А. Герд, историк М. А. Дьяконов, геолог и минералог Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, правовед В. Б. Ельяшевич32 и др. Училище считалось «передовым»; мальчики и девочки обучались совместно (что было официально разрешено, хотя многими воспринималось скептически).
Не удивительно, что к отбору учителей, претендовавших на место в Коммерческом училище, Боч подходил чрезвычайно внимательно. В результате в училище сложился к 1915 г. совершенно особый преподавательский коллектив: Б. Е. Райков33, А. Н. Максимова34, М. Я. Рудинский35, В. А. Трофимов36 и др. К работе привлекались также преподаватели Лесного и Политехнического институтов (расположенных в том же районе Петербурга), университетские профессора и лучшие преподаватели петербургских гимназий.
Ученики обладали определенными правами, которых не знали гимназии и реальные училища, находившиеся в ведении консервативного Министерства народного просвещения (тогда как коммерческие училища оказались с 1906 г. под юрисдикцией Министерства торговли и промышленности). Поощрялась всякого рода самодеятельность: кружки, школьные журналы, вечера, клубные встречи, выставки, фотографирование… Особое внимание уделялось экскурсионной работе37.
Либеральные настроения, царившие в Лесном, были созвучны М. К.
Он легко и быстро входит в повседневную работу училища, охотно принимает участие в различных внеклассных мероприятиях. Преподавая русский язык, он стремится по возможности расширить представления своих воспитанников о литературе, причем не только классической, но и современной. Сохранившийся в архиве М. К. «школьный журнал» свидетельствует о том, что 28 ноября 1915 г. в училище проводился Пушкинский вечер, а 9 декабря – вечер, посвященный Бальмонту («прошел вообще хорошо, но большого впечатления на присутствующих не произвел» (86–53; 4–5)38). Вряд ли оба эти мероприятия могли состояться без участия преподавателя-словесника. Кроме того, М. К. рекомендовал ученикам в порученных ему классах Коммерческого училища (как, вероятно, и в Шестой гимназии) вести свой собственный «классный журнал», отмечая в нем основные события текущей школьной жизни. Это подтверждает запись в общешкольном журнале, сделанная учениками «третьего основного класса»:
В этом году в нашем классе замечается бо́льшая самостоятельность и интерес, проявившиеся главным образом в открытии журнала. Мысль, натолкнувшую нас на это, подал нам учитель русского языка Марк Константинович (86–53; 13).
Весной 1916 г. минуло полгода преподавательской работы М. К. в Шестой гимназии, и статус его, согласно действовавшему тогда законодательству, изменился: 15 апреля он получил – по ходатайству Г. Г. Зоргенфрея – официальное звание учителя средних учебных заведений по русскому языку и литературе. Это означало, что в качестве государственного служащего он мог пользоваться отныне всеми правами и преимуществами, законодательно установленными для гимназических преподавателей, имеющих высший образовательный ценз39.
Работа в Шестой гимназии и Коммерческом училище продолжалась. Основным «детищем», возникшим благодаря усилиям М. К., Рудинского и других педагогов, становится созданный в 1916 г. кружок, задача которого состояла в том, чтобы вовлечь учеников старших и младших классов в изучение Лесного и его окрестностей. История этого кружка ныне достаточно известна40, поэтому остановимся лишь на некоторых фактах, освещающих участие в нем М. К.
Кружок изучения Лесного был создан 25 февраля 1916 г. Председателем организационного собрания, секретарем и основными участниками были сами учащиеся. Из преподавателей присутствовали Азадовский, Рудинский и Трофимов. Рудинский как организатор кружка открыл собрание. Вторым взял слово М. К. Приводим тезисы его выступления:
М. К. Азадовский познакомил собрание с вопросом родиноведения в широком смысле этого слова. Изучать необходимо не только прошлое данного края, но, по возможности, край в его целом, во всей полноте его жизни – и почву, и растительный, и животный миры, и язык, и самое жизнь. Без знания родного уголка невозможно узнать и понять Россию.
В своей речи М. К. рассказал о своем участии, в бытность еще студентом, в сибирской студенческой организации41, которая, пользуясь каникулярным временем, собрала огромный материал по изучению Восточной Сибири. Работа велась без особой системы, но с горячей любовью к своему краю и потому дала совершенно исключительные по успехам результаты.
Затем, перейдя к вопросу о родиноведении у нас в России, М. К. указал на то, что дело у нас далеко не так развито, как в других странах, где к работе по изучению родины относятся с особым вниманием. Классической страной в этом отношении является Финляндия, где чуть ли не в каждом «уездном» городке есть общество изучения местного края. Помимо таких провинциальных музеев в Гельсингфорсе создан центральный музей, в котором вы можете получить сведения об самых отдаленных от центров и заброшенных в снега Лапландии уголках Финляндии.
Как собирают эти сведения. Через местных священников, учителей и – что особенно важно – через учащуюся молодежь, которая, разъезжаясь на лето по всем уголкам своей родины, осенью везет собранные данные в Гельсингфорс.
М. К. закончил свою речь призывом собирать все, что встретится: песни и сказки, коллекции бабочек и гербарии, документы и фотографии. Все нести в школу и здесь уже, с помощью преподавателей, приводить в порядок42.
Это был доклад, содержащий целую программу; впоследствии М. К. расширил его, дополнил разного рода деталями и, видимо, готовил к печати. Сохранилось несколько версий этого доклада; одна из них, относящаяся к 1917 или 1918 г., была опубликована к столетию М. К.43
Вопросы «родиноведения» пользовались в ту пору общественным вниманием. Стремление к познанию родного края стало своего рода поветрием, охватившим значительное количество русской молодежи, притом не только сибирской. Это было новое идейное движение, принципиально отличное от сибирского областничества XIX в.; оно затрагивало в той или иной степени многие регионы России. Пафосом «родиноведения» были проникнуты, например, члены хабаровского кружка, сплотившиеся вокруг Арсеньева. М. К. описал эти настроения в статье «Родиноведение и студенчество». Решительно отделяя современный интерес к родному краю от романтического культа Сибири, «печальной и угрюмой красавицы», М. К. рассказал в этой статье о деятельности студенческих кружков и землячеств (прежде всего – в Петербургском университете) и заключил выводом: «…нарождается глубокое движение среди всей русской интеллигенции. Вопросы родиноведения становятся понемногу вопросами дня»44.
В течение 1916 г. состоялось несколько собраний кружка, на которых обсуждались сообщения и доклады, подготовленные учениками. На следующем собрании (14 мая) М. К. продолжил свой рассказ о Финляндии, сделав сообщение о финских краеведческих кружках и обществах и иллюстрируя его «картой музеев и обществ края и снимками отдельных музеев, провинциальных и центрального в Гельсингфорсе». Кроме того, он передал кружку несколько программ для собирания произведений народного творчества45.