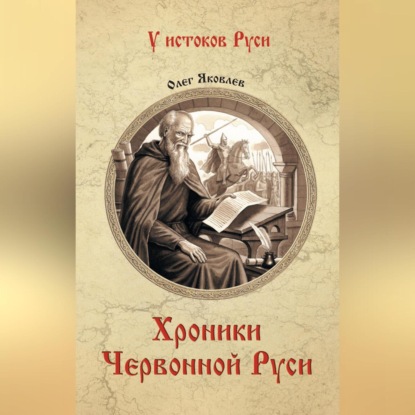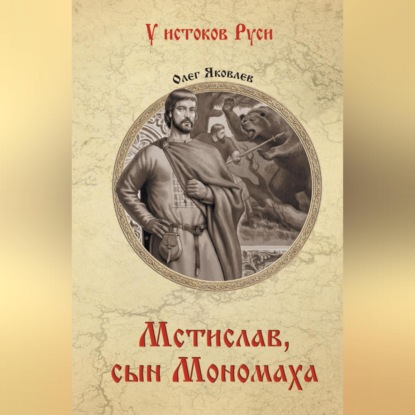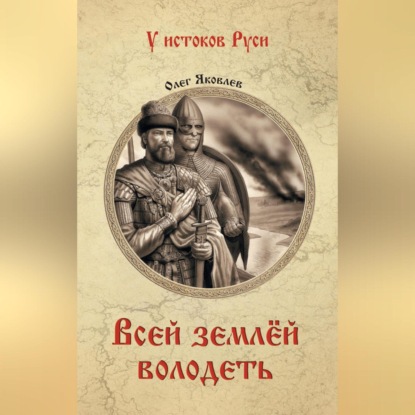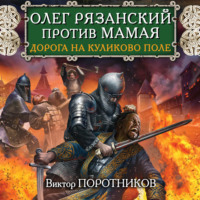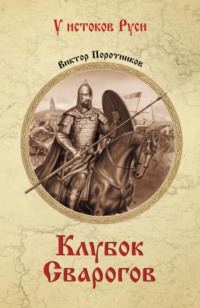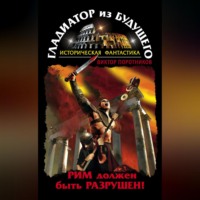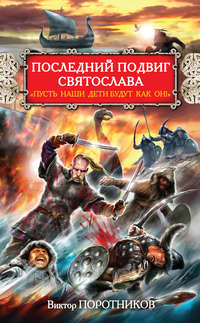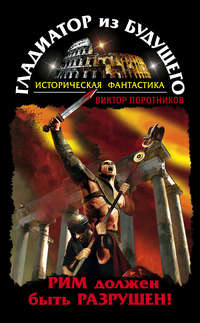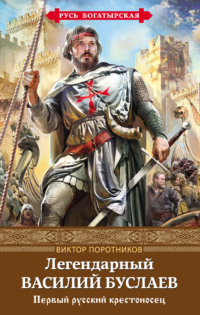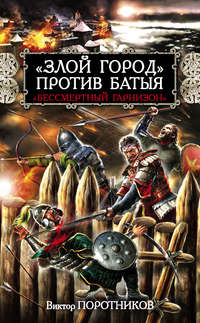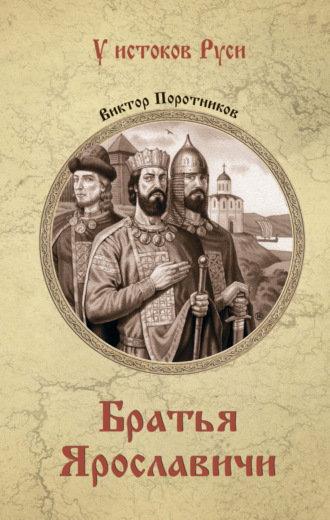
Полная версия
Братья Ярославичи
– Гизелла родила Владимиру Позвизда, а матерью Мстислава была немка Адель, – стоял на своём Гремысл.
– А я думал, что Мстислав был рождён чехиней, – проговорил черниговский боярин Перенег.
– От чехини у Владимира Святого был сын Святослав, – пустился в разъяснения Гремысл. – Адель же родила ему кроме Мстислава ещё Станислава и Судислава. Так ведь, княже?
Дружинники посмотрели на Святослава, который с улыбкой слушал этот спор.
– Верно молвишь, Гремысл, – заметил Святослав, вороша палкой уголья в костре. – Адель родила Владимиру Святому троих сыновей, токмо она была не немка, а чехиня. Немку же звали Малфрида, и умерла она в один год с Рогнедой, моей бабкой[67].
– Развёл путаницу, пустомеля! – Перенег шутливо толкнул в плечо сидящего рядом Гремысла. – Я же говорил, что Мстислав был рождён чехиней.
– От кого бы ни был рождён Мстислав, воитель он был хоть куда! – сказал Гремысл. – Притоптал Мстислав своими полками и ясов, и касогов, и обезов[68]… До сих пор все тихо сидят!
– Чего стоишь в сторонке, Давыд, – окликнул сына Святослав, – садись к огню, места всем хватит. Подвинься-ка, Глеб!
Дружинники заговорили о Мстиславе Храбром и о том, как он вышел из Тмутаракани с сильным войском и в сече при Листвене разбил полки своего брата Ярослава Мудрого. Как не пустили киевляне к себе Мстислава, несмотря на то, что Ярослав бросил их, убежав в Новгород. Тогда Мстислав сел князем в Чернигове, а сын его Евстафий вокняжился в Тмутаракани. Вскоре замирился Мстислав с Ярославом, и стали братья вместе править на Руси. Вместе они ходили походом на ятвягов, на восставших ясов, вместе отвоёвывали у поляков червенские города. Всё делали вместе, покуда не умер Мстислав в 1036 году.
Со времён Мстислава Храброго и закрепилась за Черниговом далёкая Тмутаракань.
Ещё три дня скакали дружины Святослава вдоль берега Сурожского моря.
На четвёртый день взорам черниговцев открылись жёлтые стены и башни из кирпича-сырца на вершине каменистого холма. За крепостными стенами виднелись верхушки пирамидальных тополей, крыши теремов, сияли золотом купола и кресты белокаменного храма. Крепость на холме окружали кварталы обширного града, узкие улицы которого, словно ручьи, сбегали к большой бухте, у причалов которой теснились крутобокие торговые суда.
– Вот и Тмутаракань! – невесело проронил Глеб.
Давыд, конь которого шагал рядом с конём Глеба, удивлённо взглянул на брата. Отец Глебу княжество возвращает, а тот не выглядит радостным.
«Чудак, да и только!» – подумал Давыд.
Предместья Тмутаракани утопали в садах и виноградниках. Ветер разносил аромат цветущей черешни, благоухали абрикосовые и грушевые деревья. Повсюду густо росли орех и слива.
Местные жители при виде войска, поднявшего густую пыль на дороге, побежали под защиту городских стен. Многие гнали за собой мулов, коз и коров.
На башнях крепости замелькали копья и шлемы воинов.
– Неужели Ростислава успели упредить? – нервничал Святослав.
Однако штурмовать Тмутаракань черниговцам не пришлось. Ворота города были распахнуты.
Черниговского князя вышли встречать здешние старейшины, хазарский тадун и епископ Тмутараканский Варфоломей. Следом валила толпа именитых горожан, среди которых были и греки, и арабы, и хазары, и персы…
Святослав въехал в Тмутаракань, одной рукой сжимая поводья коня, другой – рукоять меча. Грозным взглядом князь озирал кривые улицы, полные народа, плоские крыши домов, с которых наблюдали за происходящим женщины и дети. Давно он не был здесь. Какие перемены ожидают его в этом приморском разноплемённом городе? Почему без боя впускает его Ростислав в Тмутаракань?
Святослав спешился на площади перед княжеским дворцом. Сопровождаемый своими боярами, он приблизился сначала к епископу Варфоломею, сняв с головы островерхий позолоченный шлем. Епископ осенил князя крестным знамением и прочёл короткую молитву во здравие. Затем Святослав шагнул к старейшинам.
– Где Ростислав, коего вы у себя князем посадили, изменники? – громко промолвил Святослав, не слушая разноголосых приветствий. – Где вы его прячете?
Святослав схватил за шиворот подвернувшегося под руку щуплого старикашку в длинном восточном халате и белом колпаке:
– Где Ростислав? Отвечай!
– Ростислава нет в городе… Ушёл Ростислав вместе с дружиной. Ещё вчера ушёл… – наперебой заговорили старейшины и замахали руками куда-то на восток.
Святослав оттолкнул от себя старика в белом колпаке, и тот тоже торопливо заговорил, тряся бородой:
– Нету в городе Ростислава. Бежал он отсель, княже.
Святослав в недоумении оглянулся на своих бояр. Те тоже ничего не могли понять.
Вперёд выступил Гремысл и жестом подозвал к себе хазарского тадуна.
Хазарин подошёл и поклонился сначала Святославу, потом Гремыслу.
– Как поживаешь, Азарий? – с усмешкой проговорил Гремысл. – Всех конокрадов в округе переловил?
– С этим злом бороться бесполезно, воевода, – опустив глаза, ответил тадун, – а жизнь моя токмо в седле и проходит.
– Жаловал тебя Ростислав своими милостями?
– Жаловал, но с собой, однако, не взял.
Святослав подступил к хазарину:
– Говори, где Ростислав?
– Ушёл он в горы к касогам, князь.
– Когда?
– Вчера поутру.
– Со мной сечи убоялся Ростислав иль замыслил что-то?
– О том не ведаю, князь.
В беседу вступил епископ Варфоломей:
– Перед своим уходом из Тмутаракани Ростислав обмолвился, мол, из всех дядьёв ему люб лишь Святослав Ярославич, а потому не посмею поднять меч на него. Не хочу за добро злом платить.
– Куда же отправился Ростислав, святой отец? – нетерпеливо спросил Святослав.
– Люди поговаривают, что восхотел Ростислав на службу к грузинскому царю наняться, – ответил епископ. – Может, это и правда.
Святослав бросил вопросительный взгляд на Гремысла.
Воевода отрицательно помотал головой:
– Не таковский человек Ростислав, чтоб к кому-то на службу наниматься. Чаю, иное у него на уме, а вот что именно – не могу понять!
– Вот дал Бог племянничка! – сердито промолвил Святослав и выругался.
Епископ Варфоломей поспешил осенить себя крестным знамением и осуждающе посмотрел на князя.
Святослав разместил свою дружину в городе. Глеб, его гридни и челядь снова поселились в белокаменном дворце, выстроенном ещё Мстиславом Храбрым.
Не один день Святослав ломал голову над тем, вернётся Ростислав в Тмутаракань или нет, далеко ли он направил бег своих коней. Жаловался Святославу катепан[69] корсуньский Дигенис. Мол, Ростислав грозился изгнать византийцев из Тавриды[70] и Зихии[71], с этой целью корабли строить начал.
Не лгал катепан, корабли эти Святослав узрел своими глазами на берегу бухты, большие, прочные, пахнущие свежей сосной, со звериными головами на носу. Иные уже почти готовы к плаванию. Разговаривал Святослав и со строителями-корабелами, в основном это были русичи с Волыни и из Новгорода. Никто из них не скрывал, что Ростислав собирался идти в поход на греков по морю. Недружелюбно поглядывали корабельщики на черниговского князя, видно было, что сердцем каждый из них за Ростислава.
Не мог понять этого Святослав. Ведь сын его Глеб не притеснял русских людей, живущих в Тмутаракани. К тому же удел тмутараканский Глебу по закону достался. Почему Глеб не люб здешним людям? Почему народ местный с такой охотой готов служить изгою Ростиславу?
– Не иначе, приворожил Ростислав здесь всех и каждого, – зло молвил Святослав, отмеряя нервными шагами мраморный пол дворцовых покоев. – Не золотом же купил Ростислав тмутараканцев, откель ему взять столько злата! Ох, попался бы мне в руки этот злыдень!
Бояре черниговские лишь молча переглядывались друг с другом: что они могли сказать? И глупцу понятно, что люд здешний не желает видеть князем Глеба. Хотя открыто никто об этом не говорит, но общее настроение местной знати и простолюдинов именно таково. Коль воротится Ростислав в Тмутаракань, опять все за него горой встанут.
– Может, гонца послать к грузинскому царю, дабы он придержал Ростислава, ежели он у него объявится, – высказался боярин Перенег.
– Тогда уж и к касогам гонца слать надобно, – заметил Гремысл.
– Пустое это дело, – махнул рукой воевода Ратибор, – искать ветра в поле.
– Что же век тут сидеть, Ростислава дожидаючись? – раздражённо обронил Святослав.
Ратибор в раздумье пошевелил густыми бровями.
– Думается мне, княже, что Ростислав где-то недалече, – медленно произнёс он. – Верных людишек у него в Тмутаракани хватает, вот Ростислав и ждёт от них известия, когда полки наши уйдут отсель.
Святослав нахмурил лоб: может, и верно мыслит Ратибор.
– В таком случае надо оставить Глеба с малой дружиной в Тмутаракани, а самим с остатним войском к северу податься, домой будто бы, – сказал Перенег. – Эдак мы заманим Ростислава в Тмутаракань. Сами же обратно нагрянем, как снег на голову!
Святослав задумался. И Перенег дело говорит. Если пустился на хитрости Ростислав, то хитростью его и одолеть нужно. А сидеть в Тмутаракани и ждать возвращения Ростислава – без толку.
– Быть по сему, – сказал Святослав, – завтра утром поднимаем полки. В Тмутаракани останется Глеб с тремя сотнями воинов, воеводой при нём будет Гремысл. О том, как гонцами ссылаться станем, после поговорим.
Давыд попросил было у отца дозволения остаться с Глебом в Тмутаракани, но получил непреклонный отказ.
В начале июня черниговская дружина вышла из Тмутаракани и двинулась к переправе через реку Кубань, растянувшись длинной змеёй на узкой дороге.
В этот же день Глеб собрал народ на площади. Молодой князь произнёс короткую речь, в которой он упомянул о преемственности княжеской власти в Тмутаракани. Мол, происходит это волею черниговского князя, ибо так повелось ещё с Мстислава Храброго. Ростиславу, ежели придёт он с повинной головой, дядья его дадут стол княжеский на Руси. Ему же, Глебу, выпало на долю сидеть князем в Тмутаракани не по своей воле, но по воле отцовской.
Народ внимал Глебу Святославичу в глубоком молчании. Гладкие речи ведёт молодой Святославич, но как на деле править станет после того, как указали ему путь от себя тмутараканцы?
На рынках Тмутаракани не стихает суета и толчея, там даже слепой прозреет и растеряет глаза. Что ни день, приходят из-за моря торговые суда, расцвеченные разноцветными парусами. Горы товаров громоздятся на пристани, ещё больше добра по хранилищам распихано. В Тмутаракани, кроме русских и хазарских купцов, в летнюю пору проживают торговцы со всех концов света.
На улицах Тмутаракани, примыкающих к торжищам, живут ремесленники: древоделы, камнерезы, кузнецы, стеклодувы, гончары, кожевники… Не всяк по-русски разумеет, но всяк своё дело знает.
Ходят здесь по рукам самые разные монеты, хотя наибольшим спросом пользуются серебряные арабские дирхемы и золотые греческие номисмы. Повсюду на торговых площадях стоят низенькие столы менял, восседающих на сундуках с самой разнообразной монетой. Подходи, заезжий гость, здесь тебе живо поменяют медные персидские фельсы на славянские куны[72] и гривны или франкские солиды на золотые киевские змеевики.
Спокойно было в Тмутаракани с уходом отсюда черниговских полков, однако витала в воздухе какая-то смутная тревога. Помимо княжеских мытников повсюду ходили вооружённые Глебовы дружинники в кольчугах и шлемах, днём и ночью на крепостных стенах дежурила недремлющая стража. Начеку был князь Глеб, а вместе с ним и весь город.
Тадуна хазарского Гремысл отправил куда-то с глаз долой якобы с поручением, а сам воевода с таинственным видом как-то обмолвился Глебу: «Скоро вернётся хитрец Азарий и Ростислава за собой приведёт».
Дни проходили за днями, но Ростислав не объявлялся.
Прошёл июнь, начался июль…
К Андрееву дню (17 июля) иссякло терпение Святослава. Отправил он к Глебу гонца с отрядом всадников. Послание Святослава было коротким: «Уповай на себя, а не на Бога, сын мой. Даю тебе ещё две сотни гридней для укрепления твоего духа. Будь здоров!»
…Покуда добрался Святослав до Чернигова, наступил август, уже вовсю хлеба заколосились. Созрели яблоки в княжеском саду. Жара стояла такая, что хоть из речки не вылезай.
Отпустил Святослав домой переяславскую дружину. Приветлив и радостен он был в те дни.
На вопрос Олега, что стало с Ростиславом, Святослав с улыбкой ответил:
– Прослышал тетерев, что охотник приближается, и упорхнул подальше, сынок.
– А коль вернётся Ростислав в Тмутаракань, что тогда? – осторожно спросила Ода.
– Глеб ныне крепко сидит в Тмутаракани, – не без самодовольства ответил Святослав. – Я ему пятьсот воинов оставил и Гремысла в придачу. К тому же катепан корсуньский обещал Глебу триста пешцев прислать. Да из хазар-христиан набралось две сотни охочих молодцев служить моему сыну. Пусть-ка сунется Ростислав!
Едва собрали смерды урожай и завыли осенние холодные ветры, дружина Глеба вдруг объявилась под Черниговом. Увидев стяг Глеба, Святослав поначалу своим глазам не поверил. Потом, придя в ярость, Святослав прямо в воротах детинца стащил Глеба с коня и так угостил его кулаком, что одним ударом с ног сбил.
Гремыслу тоже досталось. Обругал его Святослав непристойными словами в присутствии бояр своих.
– Что это за напасть такая! – возмущался Святослав. – Мой старший сын свой княжеский стол отстоять не может! И дружина у него есть, и воевода, и меч держать он обучен, а от сечи бежит!..
– Э-э, князь, не горячись, – вступился Гремысл за Глеба. – На сей раз Глеб вывел свою дружину на сечу с Ростиславом. Да уклонился от битвы Ростислав, хотя касогов и ясов пришло с ним великое множество. Гоняться за Ростиславом мы не стали, повернули назад в Тмутаракань. Глядим, а ворота заперты. На стенах городских народ шумит, кричат Глебу, чтоб уходил он обратно в Чернигов. Глеб дружину на штурм повёл, но сзади опять подошёл Ростислав с касогами. Так и метались мы меж двух огней два дня и две ночи. На третий день ушли от Глеба те немногие тмутараканцы, что с ним были, ушли и хазары-христиане, а от катепана Дигениса подмога так и не подошла. Что нам оставалось делать, князь? Посовещались мы с Глебом и повернули коней на Русь. Ростислав нам в этом не препятствовал, наоборот, ествы дал на дорогу.
– Ну, прямо рыцарь из Одиных баллад! – сердито фыркнул Святослав.
– Рыцарь – не рыцарь, но одолел нас Ростислав не копьём, а умом, княже, – с тяжёлым вздохом произнёс Гремысл. – Мне-то что, я за свою жизнь немало сражений прошёл и ни разу бит не был, а Глеб сильно переживает. Ущемил его мужское самолюбие Ростислав.
– Поделом Глебу, – проворчал Святослав, – меньше Псалтырь читать будет.
Глеб и впрямь мрачнее тучи вступил в отчий дом, и та восторженная радость, с какой встретила его Ода, привела его в недоумение. Ода запечатлела столь пламенный поцелуй на устах Глеба, какой, пожалуй, дарят лишь горячо любимому человеку.
Смущённый этим отнюдь не материнским поцелуем, Глеб отстранил от себя Оду и хмуро обронил:
– Недостоин я твоих ласк, матушка. Без битвы побил меня Ростислав…
– Это Господь не дал пролиться ни твоей, ни Ростиславовой крови, сынок, – убеждённым голосом сказала Ода. И, не давая Глебу возразить, она тут же добавила: – Это Господь возжелал, чтоб вы с Ростиславом не стали врагами. Это Господь! Он услыхал мои молитвы!..
Глеб даже онемел от неожиданности: неужели его очаровательная мачеха молилась за него?! В этот миг ни о чём не догадывающийся Глеб почувствовал себя счастливейшим из людей.
Глава третья. Недобрые знамения
(1065) В это же время случилось знамение небесное. На западе явилась звезда великая с лучами как бы кровавыми, с вечера выходившая на небо после захода солнца.
Повесть временных летДивился Святослав, зачем это Изяслав столь спешно его к себе вызывает. Иль проведал Изяслав о неудаче Святослава в Тмутаракани и надумал вмешаться. Именно эта мысль и сподвигла Святослава без задержки в Киев примчаться.
Изяслав был приятно удивлён скорым приездом Святослава на его зов.
Уединился Изяслав с братом и поведал ему о своих печалях:
– Покуда ты ходил в Тмутаракань, брат мой, на Руси недобрые знамения появлялись то тут, то там. На Ивана Купалу вечером звезда кровавая взошла на небе, и являлась та звезда семь дней кряду. Народ напуган был, люди из храмов не выходили. Кто-то слух пустил, что конец света близко. Я с митрополитом разговаривал, и поведал мне Ефрем, что не к добру сие знамение.
В древние времена, при римском кесаре Нероне в Иерусалиме тоже звезда великая с вечера воссияла над городом: предвещало это нашествие римского войска. При кесаре Юстиниане звезда двадцать дней блистала над Константинополем. Стала она предвестницей крамол и болезней среди людей.
На Максима (11 мая) в Новгороде видели, как почернело солнце средь бела дня, словно его щитом прикрыли, и мрак упал на землю. Ефрем сказывал, что при царе Ироде над Иерусалимом случилось такое же знамение и через сорок дней после этого царь Антиох напал на Иерусалим.
Но это ещё не всё, брат мой. Совсем недавно рыбаки на речке Сетомли выловили неводом мёртвого младенца. Устрашились они вида его и принесли в Киев, чтобы показать знающим людям. Видел того младенца и я. Уродец сей таков: вместо ног у него были руки, вместо рук ноги, а на лице срамной мужской отросток. Ефрем сказал мне, что при кесаре Маврикии некая женщина близ Царьграда родила ребёнка без глаз и без рук. После чего был голод в империи ромеев и междоусобная война. Вот так-то, брат мой.
Святослав презрительно усмехнулся:
– Ты больше Ефрема слушай, брат. Он тебе наплетёт небылиц!
– Грех такое молвить, брат, – нахмурился Изяслав. – Ефрем ведь не выдумками меня тешит, всё это в книгах прописано. Такое, слава Богу, случается не каждый год, поэтому люди испокон веку наблюдали, к чему могут привести такие знамения.
– А нам-то чего ждать от этих знамений, Ефрем тебе поведал? – спросил Святослав.
– Усобица разгорится на земле Русской, – печально ответил Изяслав, – или же нахлынут поганые из Степи, поскольку звезда была красная, предвещающая кровопролитие. Я ведь зачем тебя к себе призвал…
– Про знамения поведать, – вставил Святослав, не скрывая скептической усмешки.
– Знамения – это присказка, а сказка будет впереди, брат, – хмуря брови, продолжил Изяслав. – Слыхал, что Всеслав Полоцкий учинил?
– Нет, не слышал, – насторожился Святослав.
– На Ильин день (2 августа) подступил окаянный Всеслав с ратью ко Пскову и бил пороками в стены. Три дня отбивались псковичи, на четвёртый день Всеслав пожёг всю округу и ушёл в свои Подвинские леса. Сбываются знамения-то!
– Неужто трое Ярославичей одного Брячиславича не одолеют! – Святослав покачал головой. – Скликай рать, великий князь, до зимних холодов успеем добраться до Всеслава.
Изяслав оживился, повеселел:
– Мыслишь, брат, стоит проучить Всеслава?
– Непременно нужно проучить наглеца! – Святослав поднял правый кулак и потряс им.
– Моя дружина уже готова выступить, – сказал Изяслав. – По чести говоря, не хотел я, брат, без тебя войну начинать, дабы Всеслав не подумал, будто между нами сладу нет. Ждал я, когда ты из Тмутаракани возвратишься.
– А Всеволод согласен ли воевать со Всеславом? – спросил Святослав.
– Всеволод токмо сигнала ждёт, чтоб двинуть свою дружину в поход, – ответил Изяслав. – Едины мы помыслами с ним.
– Думается мне, с той поры вы с ним едины помыслами стали, как уступил ты Всеволоду Ростов и Суздаль. Не так ли, брат?
В глазах Святослава сверкнули коварные огоньки.
Изяслав смутился и не нашёлся, чем ответить на это. Умеет Святослав его огорошить!
А Святослав, как ни в чём не бывало, глаза опустил, завздыхал:
– Не повезло мне в Тмутаракани, брат. Ростислав бежал от меня в горы, но стоило моей дружине уйти обратно в Чернигов, он вернулся и опять согнал сына моего с тмутараканского стола. Придётся мне вдругорядь к Лукоморью полки вести.
Изяслав мигом вставил своё слово:
– Вместе пойдём, брат мой. Доберёмся и до Ростислава!
Святославу лишь того и надо было.
Договорились братья соединить свои дружины у городка Любеча в середине октября. После отъезда Святослава Изяслав послал гонца в Переяславль, к брату Всеволоду.
…Осень выдалась сухая и тёплая. С Семёнова дня (14 сентября) помочило немного землю дождями и перестало.
Святослав дождался, когда смерды сметают сено в скирды, и только тогда разослал по сёлам бирючей[73], созывая охочих людей в своё войско. На сборы ушло пять дней. Покуда добрались до Чернигова ратники из Курска, Рыльска, Путивля, Стародуба и других городов, покуда воеводы распределили всех по сотням и тысячам да вооружили тех, кто пришёл с голыми руками, – а из деревень таких пришло немало, – покуда подвезли съестные припасы с княжеских погостов и амбаров.
Черниговская дружина готовилась к походу особенно тщательно – Всеслав враг опасный. Гудит воинский стан у стен Чернигова, на берегу реки Стрижень.
Накануне выступления Святослав собрал воевод и своих старших сыновей на военный совет.
– Двигаться скрытно будем, дабы не почуял Всеслав беды, – сказал Святослав, – а посему чёрные люди и пеший полк порознь к Любечу выступят.
– Как же им порознь идти, княже, ведь дорога-то на Любеч одна, – заметил Гремысл.
– По одной дороге, да не в один день, – пояснил Святослав, бросив на Гремысла строгий взгляд. – С пешим полком ты пойдёшь, а чёрных людей Путята Прокшич возглавит. Во главе молодшей дружины Глеб встанет, во главе старшей дружины – Регнвальд.
Воеводы незаметно переглянулись. Похоже, сердит князь на Гремысла, коль не доверил ему старшую дружину, а поставил его над пешей ратью.
Глеб же после слов отца преобразился, в его очах огонь заиграл. Приосанился он. Наконец-то и его отец поставил вровень с главными воеводами!
На другой день спозаранку пеший полк ушёл в сторону Любеча. В полдень следующего дня Путята Прокшич двинул по той же дороге чёрную рать.
Пробудившись как-то на рассвете, Ода поднялась с постели, глянула в окно на далёкое поле за Стриженью. Там больше не дымили костры, не стояли повозки, не было видно ни шатров, ни шалашей. Опустел широкий луг.
Услышав, как заворочался на ложе Святослав, Ода оглянулась на него и насмешливо промолвила:
– Проспал ты войну, князь мой. Ушло войско без тебя.
Сонный Святослав приоткрыл глаза и взглянул на жену.
– Утопали, стало быть, мужички… – пробормотал он. – Вот и славно!
Князь вновь закрыл глаза.
За утренней трапезой Ода сидела за столом между Глебом и Вышеславой.
Сидящий напротив Олег то и дело кидал на мачеху взгляды исподлобья. Ода поймала на себе один из таких взглядов и обратилась к Олегу с шутливым вопросом:
– Тебе, наверно, хочется сегодня закусить не этим налимом, а мною, коль ты пожираешь меня такими взглядами. Не так ли, Олег?
Олег смутился и ничего не ответил.
– Матушка, Олег пожирает завистливыми взглядами Глеба, а не тебя, – с улыбкой сказал Давыд, – ведь это ему батюшка доверил молодшую дружину.
Ода повернулась к Глебу:
– Это так, сынок?
Глеб молча покивал головой, поскольку рот его был набит жареной рыбой.
Вышеслава и Ярослав засмеялись.
Потом посыпались остроты Святослава, на которые лишь Роман достойно отвечал своими остротами. И снова за столом звучал смех, причём звонче всех смеялась Вышеслава.
Вышеслава вышла к завтраку без платка, с волосами, заплетёнными в длинную косу. Румянец на щеках и вьющиеся на висках локоны придавали Вышеславе необыкновенное очарование. Юный Ярослав не спускал восхищённых глаз со своей старшей сестры. Мать и Вышеслава являлись для Ярослава самыми близкими людьми, так как именно с ними он виделся чаще, с ними он разговаривал на немецком, ставшем для него вторым родным языком.
Святослав не жаловал своего младшего сына особым вниманием, его холодность к жене постепенно перешла и на Ярослава, который унаследовал все черты сходства с Одой. Старшие сыновья Святослава уже вышли из детского возраста и относились к Ярославу скорее с дружеской опекой, нежели с братской любовью. Отчасти в этом была виновата и Ода, которая изначально старалась пробудить в своих пасынках не сыновние, а дружеские чувства к себе. Материнское начало проснулось в Оде лишь с рождением Ярослава. Тогда Оде самой исполнилось двадцать лет. К тому времени пасынки отдалились от Оды, попав под опеку воспитателей. Оде оставалось изливать пробудившуюся в ней нежность на Ярослава и Вышеславу, которые всегда были подле неё.
Став постарше, пасынки порой позволяли себе держаться на равных с Одой, цветущий вид которой и непринуждённая манера общения не воздвигали перед ними барьера в виде излишней почтительности. Пасынки называли Оду матушкой, но между собой они звали её по имени или употребляли прозвища, подходящие для хорошенькой молодой женщины. Между взрослеющими старшими сыновьями Святослава незримо шла непрестанная борьба за внимание Оды, первенство в которой держал Глеб до своего отъезда в Тмутаракань. Затем место Глеба ненадолго занял Давыд, не умеющий облекать свои мысли в красивые фразы и напрочь лишённый остроумия, поэтому Ода стала оказывать больше внимания Олегу и Роману, оставив Давыда в тени.