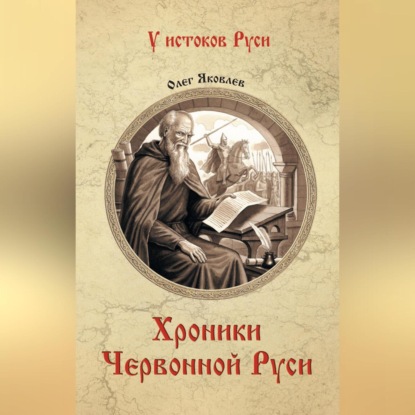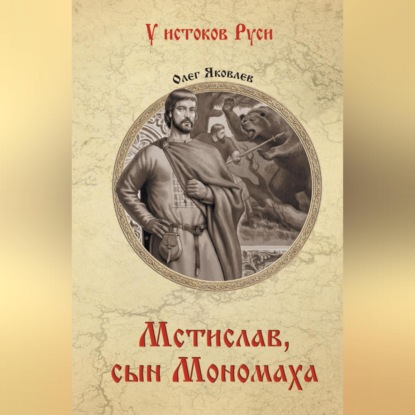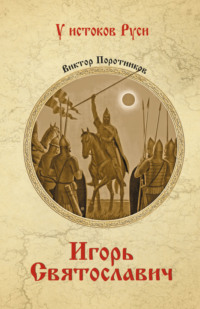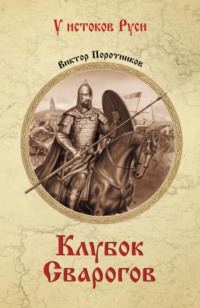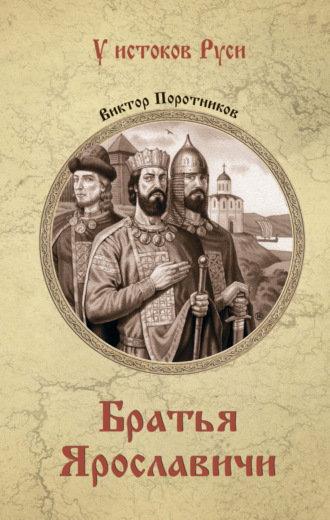
Полная версия
Братья Ярославичи
В один из вечеров Святослав вызвал брата на откровенный разговор.
Всеволод не стал таиться.
– Ещё в марте побывал у меня гонец от Изяслава, – признался он. – Уступает мне Изяслав Ростов и Суздаль. Туда мне ныне предстоит дружину слать с надёжным воеводой.
Святослав выругался от досады. И тут же рассмеялся:
– Обскакал меня Изяслав. Как хитро он всё провернул! Не иначе, Гертруда его надоумила. Не жена, а золото!
– Опять же от половцев летом всегда беды можно ожидать, – добавил Всеволод. – С Шаруканом я замирился, а десять его сородичей голодными волками в степи рыщут. Как я Переяславль без войска оставлю!
– Понадеялся я на тебя, брат, – вздохнул Святослав, – да, видать, напрасно.
– Уговор наш я не забыл, – сказал Всеволод. – Вместо меня боярин Ратибор пойдёт с молодшей дружиной к Тмутаракани.
Хотел было Святослав упрекнуть Всеволода в двоедушии, но удержался от этого. Кто знает, может, и ему когда-нибудь придётся вилять между Изяславом и Всеволодом.
…Окропило землю первым весенним дождичком, и сразу разомлела почва от тепла и влаги, в рост пошла трава луговая, оделись свежей клейкой листвой деревья. Смерды на полях вышли сеять ранние яровые. Как говорили на Руси: пришёл Егорий (6 мая) с теплом. На Егорьевской неделе ласточки прилетают.
Собрался Святослав к Тмутаракани с крепкой силою – в пять тысяч конных дружинников. Двух старших сынов в поход снарядил Святослав, Глеба и Давыда. Первый должен был опять на тмутараканский стол сесть, второму предстояло ратному делу поучиться. Не всё же время Давыду книги листать да с дворовыми девками миловаться, рассудил князь. Черниговский стол Святослав оставил на своего третьего сына – Олега, которому вот-вот должно было исполниться семнадцать лет. При Олеге Святослав оставил троих советников надёжных: боярина Веремуда с братом Алком и варяга Регнвальда.
Пешее войско Святослав решил дома оставить, не взял он с собой в поход и повозки, повелев всё необходимое в пути на лошадей навьючить. Намеревался Святослав двигаться через степи скорыми переходами, чтобы внезапно нагрянуть в гости к Ростиславу.
Ранним майским утром, когда роса ещё не высохла и ещё не смолкли соловьи в ольшанике над речкой Стриженью, отворились ворота града Чернигова. Вышла из ворот конная рать и растаяла в рассветной туманной мгле.
На бревенчатой башне детинца стояли Ода, Олег с братом Романом, боярин Веремуд, варяг Регнвальд и саксонский барон Ульрих, на днях приехавший в Чернигов. Барон Ульрих являлся доверенным лицом графа Штаденского Леопольда, отца Оды, это был не первый его приезд в столицу северских земель[56].
Всё случившееся на глазах у барона за последние три дня: приготовления к выступлению войска, суета в княжеском тереме, совещания Святослава с боярами, затем прощальный пир и напутственный молебен – всё это порядком утомило щепетильного немца. К тому же Ульриха уязвило то, что Святослав уделил для беседы с ним каких-то полчаса, а потом и вовсе забыл про него.
«Наконец-то убрался крикливый черниговский князь! – сердито думал барон Ульрих и первым стал спускаться по дубовым ступенькам в тёмное чрево высокой башни. – Не сломать бы здесь шею. Да уж, это не каменный замок графа Леопольда!»
Вслед за бароном Ульрихом последовал Регнвальд отчасти лишь затем, чтобы оказать помощь немецкому послу, если у того возникнут затруднения во мраке глухих стен, на крутых неудобных ступенях. Следом за варягом скрылся в четырёхугольном тёмном люке боярин Веремуд. Было слышно, как поскрипывают дубовые доски лестничных пролётов под его грузным телом.
Покуда конное войско удалялось по дороге от города к холмам, поросшим лесом, стоящие на башне люди не произнесли ни слова. Войско скрылось в тумане, ещё какое-то время виднелись над туманной завесой длинные копья дружинников, но вскоре исчезли и они. Перед взором оставшихся на башне лежала опустевшая дорога, уходившая в туманную даль.
Внезапно чуткую рассветную тишину нарушил протяжный свист коростеля.
Роман вздохнул, посмотрел сбоку на Олега, потом на Оду, стоящую у самого заборола спиной к нему. Как он завидовал своим старшим братьям! А ведь у него стрелы всегда летят точно в цель, не то что у Глеба, и мечом он владеет намного ловчее Давыда. Любой дружинник подтвердит это. Однако с отцом спорить бесполезно.
Расстроенный Роман молча покинул верхнюю площадку сторожевой башни.
Олег и Ода остались одни на башне.
Невдалеке снова пропел коростель.
Ода зябко пожала плечами, по-прежнему глядя вдаль.
Олег скинул с себя тёплое корзно[57] и укрыл им плечи молодой женщины. Ода прошептала: «Благодарю», слегка повернув голову. Сдавленная интонация её голоса насторожила Олега.
Но вот мачеха повернулась к нему, и княжич увидел слёзы у неё на глазах.
Это пробудило в Олеге сострадание к Оде. Ни разу доселе он не видел свою мачеху плачущей. Отец и раньше ходил в походы, однако Ода всегда провожала его без слёз. И вдруг такое…
– Не печалься, матушка, – промолвил Олег, – коль Глеб всего с двумя сотнями гридней сумел миновать половецкие вежи, то батюшке моему с его-то дружиной все ханы половецкие нипочём.
– Конечно, нипочём, мой юный князь. – Ода постаралась улыбнуться. – Помоги мне сойти вниз.
С самых юных лет Олег чувствовал на себе обаяние этой красивой женщины, своей мачехи, которая вошла в его жизнь, когда ему исполнилось четыре года. Свою родную мать Олег не помнил, зато он надолго запомнил восхищённые отзывы о ней своего отца, вырвавшиеся у него в порыве откровения. Ода с её немецкой речью, режущей слух, первое время казалась маленькому Олегу гостьей из чужого далёкого мира, который незримой стеной стоит за нею, и от него веет чем-то непонятным и холодным. В том мире люди имеют странные имена, носят непривычные для славян одежды и служат сатане, так рассказывал о католиках юному Олегу инок Дионисий, обучавший его грамоте.
Самое первое незабываемое впечатление маленький Олег испытал в шесть лет, когда он и пятилетний Роман ехали вместе с Одой в крытом возке. В ту зиму умер дед Олега, киевский князь Ярослав Мудрый. Той же зимой вся семья Святослава Ярославича, его челядь и дружина переезжали из града Владимира в скрытый за лесами и далями Чернигов. Дорога была длинная. Однажды вечером порядком измучившийся Олег долго не мог заснуть. Ода уложила Олега головой к себе на колени и стала напевать немецкую колыбельную песенку. Олег заснул, не дослушав колыбельную до конца. Он не понял ни слова из этой песни с таким необычным мотивом, с простым «ля-ля» вместо припева, но нежный голос мачехи буквально заворожил и усыпил его.
Уже в Чернигове подросший Олег рассказывал Оде русские былины, а она переспрашивала его, не понимая значения того или иного русского слова. Всё-таки русский язык давался Оде с трудом. Вот почему Ода так любила беседовать по-русски именно с Олегом и Романом: ведь они никогда не подсмеивались над ней за её произношение. Более того, Олег и Роман сами охотно слушали рассказы Оды о Саксонии, о германских королях, о походах рыцарей в Италию… Ода знала, чем заинтересовать мальчишеские умы.
Став постарше, Олег и Роман гораздо реже встречались с мачехой наедине, ведь почти весь их досуг был занят книжным учением, греческим языком, богословием и постоянно усиливающейся подготовкой к ратному делу. Ода же стала уделять больше внимания своему первенцу от Святослава – княжичу Ярославу.
Кроме того, под наблюдением Оды воспитывалась её падчерица Вышеслава. Как-то незаметно для всех Ода обучила Вышеславу немецкой речи, научила её играть на лютне, танцевать саксонские танцы и петь саксонские баллады. Святослав однажды раздражённо заметил при сыновьях, мол, была одна немка в доме, теперь стало две!
Никакой особенной ласки и внимания со стороны Святослава Ода не видела. С годами Олег всё больше замечал усиливающееся отчуждение между отцом и Одой. В глубине души Олег всегда был на стороне Оды, не понимая отца, как можно было не любить такую жену-красавицу. Казалось бы, теперь, когда Ода хорошо говорит по-русски и одевается в славянские наряды, она должна стать ближе Святославу. Выходило же всё наоборот.
…Дела и заботы свалились на Олега с первого же дня. Утром к Олегу пришёл княжеский тиун и два часа утомлял его именами недоимщиков, перечислял, сколько берковцев[58] овса и жита взяла с собой ушедшая рать Святослава, сколько осталось в княжеских амбарах, сколько ржи, ячменя и проса приготовлено им для сева и сколько зерна можно пустить на продажу. Говорил тиун и про серебряные гривны, полученные им с какого-то булгарского купца за «залежалый товар».
– Не гневайся, князь, что мало взял с басурманина, – лебезил перед Олегом пронырливый тиун, – товар уж больно бросовый был. Почитай, два года лежал в закромах.
– Пустое, Аксён, – махнул рукой Олег, мысли которого были совсем о другом.
В переходах терема Олег столкнулся с сестрой Вышеславой, спешащей куда-то. По лицу сестры Олег догадался: что-то случилось в женских покоях.
– Мати наша рыдает не переставая, – поведала брату Вышеслава. – Похоже, по отцу нашему убивается. Я говорю ей, что нельзя так по живому плакать, беду накликать можно, а она меня прочь гонит. И Регелинду гонит от себя, и Ярослава…
Олег задумался. Ему показалось странным, что выдержка вдруг изменила Оде. Может, отец сказал ей что-нибудь обидное при прощании? А может, это барон Ульрих что-то наговорил Оде втихомолку? Вечно этот немчин объявляется не ко времени!
К обеду Ода не вышла из своих покоев.
В трапезной сидели Олег, Роман, Вышеслава и Ярослав. Впервые за княжеским столом было так пусто и неуютно. Ярослав ел молча, не поднимая головы. Вышеслава сидела невесёлая, почти не прикасаясь к яствам.
– Эдак будешь вкушать, сестрица, бёдер-то не нарастишь, – обратился к Вышеславе острый на язык Роман. – За что парни-то на вечёрках тебя хватать станут, а?
Вышеслава вскинула на Романа гнвные глаза:
– А тебе бы токмо нажраться до отвала!
Челядинки, видя царящее в трапезной мрачное напряжение, бесшумно и быстро скользили по деревянному полу, уносили одни блюда, приносили другие.
Неуёмный Роман принялся подтрунивать над старшим братом:
– Что же ты, светлый князь, голову повесил? Не отведал почти ничего. Иль нынешний кус не на княжий вкус?
Олег промолчал, лишь холодно посмотрел на Романа.
Роман опять повернулся к Вышеславе:
– Почто матушка не обедает с нами? Нездоровится ей, что ли?
– Недомогает она, – сухо ответила Вышеслава.
Служанки принесли горячее говяжье жаркое. На какое-то время в трапезной повисло молчание, нарушаемое лишь чавканьем Романа и стуком костей об пол, которые он бросал собакам.
Ярослав поднялся со стула и попросил разрешения у старшего брата удалиться в свою светлицу. Олег кивком головы позволил Ярославу покинуть трапезную.
Роман подозрительно взглянул на Олега, потом на Вышеславу и спросил с усмешкой:
– Вы, часом, не поругались?
– Ешь своё мясо, – бросила Вышеслава Роману. – Не отвлекайся.
– А ты почто не ешь?
– Не хочу, чтобы парни меня за бёдра лапали!
Роман прыснул в кулак.
Неунывающий бесёнок жил в нём. Не умел Роман долго кручиниться, а без шуток и прибауток и вовсе жить не мог. Из всех сыновей Святослава один Роман красотою уродился в мать, но и пересмешник был таков, каких поискать. Этим Роман вышел в отца.
Роман схватил Вышеславу за руку, едва та встала из-за стола:
– Куда ты, сестрица? А у светлого князя позволения почто не спросила?
– Пусти, Ромка! – попыталась высвободиться Вышеслава. – Слышь, пусти!
– Поклонись князю, тогда отпущу, – засмеялся Роман и подмигнул Олегу.
Однако старшему брату было не до смеха.
– Роман, – сурово произнёс Олег, – не балуй!
Роман отпустил Вышеславу и вновь принялся за жаркое с таким видом, будто ничего не случилось. Он знал, в каких случаях Олегу не стоит прекословить.
Вышеслава направилась к дверям, обойдя лежащих на полу собак. Походка у неё была лёгкая и немного величавая. Вышеславе было пятнадцать лет, но держалась она по-взрослому и во многом старалась подражать своей любимой мачехе. Вот и сейчас на Вышеславе было надето длинное белое платье, как у Оды, с узкими рукавами и глухим воротом. Голова её была покрыта белым саксонским убрусом[59], поверх которого была наброшена тонкая прозрачная накидка, скреплённая на лбу серебряным обручем.
В дверях Вышеслава задержалась и, обернувшись, бросила на Олега благодарный взгляд. В стройной фигуре Вышеславы уже явственно угадывались приятные мужскому взгляду округлости. Это особенно подчёркивалось её узким платьем.
Олег поймал себя на этой мысли и слегка смутился в душе, словно невзначай подглядел за обнажённой сестрой. А ведь всего несколько лет тому назад он, Роман и Вышеслава, бывало, засыпали в одной постели и даже вместе ходили в баню.
Поздно вечером, отпустив мытников[60] и вирников[61], коих привёл в княжеский терем услужливый тиун Аксён, Олег вышел в сад, примыкающий к терему с южной стороны. Ему захотелось побыть одному, прийти в себя после суматошного дня.
В необъятной вышине перемигивались яркие звёзды. Тёплые сумерки окутывали всё вокруг. Сочный аромат свежей листвы смешивался с запахом чернозёма и сухой прошлогодней листвы. Птицы давно умолкли. В чуткой тишине глубокая ночь опускалась на улицы и переулки Чернигова.
Олег не заметил, как оказался под окнами женских покоев.
Внезапно одно из окон на втором ярусе со стуком распахнулось, жёлтый свет восковых свечей вырвался наружу, упав на высокую яблоню, под ветвями которой затаился Олег. До его слуха донеслись мелодичные переборы струн лютни.
«Похоже, матушка и Вышеслава разучивают новую балладу», – подумал Олег.
Он задержался под кроной яблони, чтобы послушать песню. Вышеслава была прекрасной исполнительницей, немецкий язык в её устах, казалось, становился мягче и мелодичнее. Даже барон Ульрих, этот строгий ценитель, несколько раз хвалил Вышеславу, услышав её пение.
Однако песню запела Ода.
Олег замер, поражённый печальной торжественностью музыки, грустными напевами струн, – как они звучали! – будто сама тоска настраивала их лады, а приятный голос Оды лишь дополнял дивное сплетение звуков чувственным напевом, таким негромким, что даже при знании немецкого Олегу всё равно было бы не разобрать всех слов песни. Одно Олегу было совершенно ясно: песня Оды шла от самого сердца, израненного болью и страхом за любимого человека. Душевные переживания Оды изливались в этой старинной саксонской балладе.
Олегу стало не по себе, словно он стал невольным свидетелем чужого горя. Уйти он тоже не мог, ноги не слушались его.
Когда песня смолкла, струны лютни ещё звучали под пальцами Оды, и высокая печаль, постепенно стихая, отдвалась отголосками в растревоженном сердце Олега.
Уже лёжа в постели, Олег долго не мог заснуть, печальная песня Оды продолжала звучать в его ушах. То высокое чувство, которое притягивает мужчину к женщине, о котором сложено так много песен, вдруг осенило его своим крылом. Есть что-то божественное в истинной любви, и любое проявление её способно возвысить человека. Ценит ли Олегов отец этот дар, коим по воле судьбы стала Ода, его жена? Постиг ли он глубину чувств этой удивительной женщины?
Олег почему-то был уверен, что его отец не питает к Оде сильных чувств и Ода отвечает ему тем же. Стало быть, печаль Оды явно о другом человеке, но никак не о своём супруге. И тот, другой, похоже, пребывает где-то далеко от Чернигова.
А не Глеб ли это?..
Олега даже пот прошиб от этой догадки. Ему тут же вспомнилось, как Ода обрадовалась возвращению Глеба из Тмутаракани, как она уединилась с ним в своей светлице. Ода и Глеб довольно долго беседовали наедине, и при этом не присутствовала даже Регелинда, которая обычно ни на шаг не отходит от своей госпожи. Ода выставила Регелинду за дверь. Не впустила Ода к себе и Вышеславу.
В сердце Олега зашевелилась ревность. Осуждать свою мачеху он не смел, в её-то годы любой женщине хочется внимания и ласки. Не мог Олег осуждать и Глеба: Ода всего на десять лет его старше, разве может Глеб устоять перед её чарами! Значит, не просто так Ода и Глеб катались верхом на лошадях в бору за рекой Стриженью. И ехидные намёки Романа, видимо, попадали в цель, если они так сердили и вгоняли в краску всегда столь невозмутимого Глеба.
В утро прощания Ода, находясь на крепостной башне, явно не хотела никому показывать своих слёз, дабы не вызвать подозрений, но своей песней она выдала себя.
Догадка Олега быстро переросла в уверенность, что он докопался до истинной сути, а уверенность ещё сильнее разожгла в нём ревность. Конечно, Глеб самый старший из братьев Олега, поэтому Ода на него и обратила внимание. К тому же Глеб такой вежливый и внимательный. Вот только когда успело окрепнуть чувство Оды к Глебу, коего отец отправил в пятнадцать лет на княжение в Тмутаракань? Ода и Глеб четыре года пребывали в разлуке. Это Олегу было непонятно.
* * *А Глеб тем временем день ото дня всё дальше углублялся вместе с черниговской дружиной в объятые солнцем бескрайние степи, не ведая о душевных муках Олега. И мысли Глеба были совсем не об Оде.
На третий день пути впереди показались всадники в замшевых куртках, в островерхих шапках, с луками и колчанами за спиной. Помаячив на дальнем холме, таинственные всадники быстро исчезли. Русичи усилили дозоры. От степняков можно ожидать любой хитрости, ведь в Степи они у себя дома.
К вечеру войско Святослава наткнулось на следы половецкого становища. На берегу небольшой мелководной речки чернели головешки потухших кострищ, валялись обломки жердей, вокруг на истоптанной луговине виднелись кучки лошадиного помёта.
– На юг подались степняки, – сказал Гремысл Святославу, разглядывая в траве колеи от тележных колёс.
– Давно ли? – спросил Святослав.
Гремысл поворошил рукой пепел одного из кострищ и, подумав, ответил:
– Уже минуло не менее шести часов.
– Не мы ли их спугнули, как думаешь? – опять спросил Святослав.
– Наверняка степняки нашего воинства испугались и убрались отсюда поскорее, – сказал Гремысл.
– Ладно, – Святослав спрыгнул с седла, – заночуем здесь.
Русичи расседлали лошадей, разожгли костры, стали кашу варить. Палаток не ставили, укладывались спать прямо на траве, подстелив под себя лошадиные попоны и закутавшись в плащи.
С первыми лучами солнца двинулись дальше.
Проводниками были Гремысл и торчин Колчко.
Воевода и торчин ехали впереди войска, не перекидываясь порой за весь день и парой слов. Колчко плохо говорил по-русски и больше изъяснялся знаками. Гремысл и вовсе не знал ни слова на языке торков. Беседы между ними всегда были краткими, очень выразительными и касались только дороги.
Если Гремысл показывал рукой на юго-запад, цокал языком, изображая топот копыт, и называл какую-нибудь речку в той местности, через которую предстояло пройти русским полкам, то это означало, что до захода солнца воинству Святослава необходимо добраться до этой степной реки. Колчко понимающе кивал головой и одному ему ведомыми путями вёл полки к указанной Гремыслом реке, обходя овраги и солончаки.
Иногда проводники затевали спор, остановив коней посреди ровного поля, каждый на своём языке пытаясь убедить другого в правильности выбранного им направления. Войско останавливалось и ждало разрешения спора. Бывало, спор затягивался. Тогда Гремысл слезал с седла и ножнами кинжала принимался что-то чертить на земле. Колчко наблюдал за ним, сидя на своей низкорослой буланой лошадке. Затем торчин быстро спешивался и, вынув саблю из ножен, начинал её остриём вносить свои дополнения в рисунок воеводы. При этом оба так и сыпали словами, каждый на своём языке, размахивая руками перед носом друг у друга.
Дружинники смеялись, глядя на них.
Святослав, теряя терпение, кричал:
– Друг дружку не зарежьте, спорщики!
В другой раз Святослав сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Гремысл оглянулся на князя. Махнул ему рукой Святослав, мол, уступи, пусть торчин ведёт войско как знает.
Гремысл уступил.
После этого случая пришлось Гремыслу уступать и впредь, ибо только он упрётся на своём, Колчко пальцы в рот и давай свистеть. Так и получилось, что до Дона два проводника войско вели, а после Дона до самого Лукоморья уже один.
Близ реки Тор вдруг русичам преградили дорогу несколько тысяч конных половцев.
Русские полки изготовились к сече, ощетинились копьями.
Святослав объехал ряды дружинников, возле сыновей своих придержал коня и строго произнёс:
– Чур, отца не срамить!
По знаку князя полки на рысях двинулись на кочевников.
От половцев прискакал гонец с сообщением, мол, желает половецкий хан с русским князем разговаривать.
– Ишь, чего захотел чёрт узкоглазый! – усмехнулся Святослав и кивнул Колчко: – Спроси у гонца, как зовут хана. Не Шарукан ли?
Оказалось, что хана зовут Токсоба.
Святослав вспомнил предостережения Шарукана, и захотелось ему посмотреть на храброго Токсобу.
На переговоры с ханом Святослав взял с собой помимо Гремысла и Колчко обоих своих сыновей.
Токсоба выехал навстречу Святославу в сопровождении пяти военачальников-беев.
Хан был крепкого телосложения, с жилистой шеей, с коротким приплюснутым носом, с густыми светло-золотистыми бровями под цвет длинных волос, заплетённых в две косы. Глаза у хана были жёлтые, как у рыси. Рыжеватые усы и бородка обрамляли его рот, который постоянно кривился в хитрой усмешке.
К удивлению Святослава, Токсоба заговорил с ним на ломаном русском:
– Здрав будь, княс. Куда путь держишь?
– И тебе доброго здоровья, хан, – сказал Святослав. – В свои владения тмутараканские поспешаю.
– Иль стряслось что-то, княс? – допытывался Токсоба.
– Да так, по своим делам еду, – нехотя ответил Святослав.
Токсоба покачал головой и сощурил глаза, словно кот на печи.
– Ай, ай, княс!.. По своим делам едешь, но по моим степям. За это деньга платить надо!
– Сначала, хан, ты заплати мне за то, что вот уже много лет под моим небом живёшь, – быстро нашёлся Святослав.
Улыбка исчезла с широкого лица Токсобы.
– Как так, княс? – озадаченно пробормотал он. – Небо никому не принадлежит, оно ничьё…
– Поскольку небо ничьё, поэтому я и взял его себе, – с серьёзным видом промолвил Святослав.
Токсоба несколько мгновений размышлял, не спуская пристального взгляда с невозмутимого Святослава. Потом хан рассмеялся отрывисто и резко, обнажив крепкие белые зубы:
– Ай, какой хитрый княс!.. Как степная лисица! Хочу дружить с тобой.
– От дружбы никогда не отказываемся, – сказал Святослав.
Обменялись князь и хан оружием и поклялись не сражаться друг с другом.
Глядя на удаляющегося Токсобу и его беев, Гремысл недовольно проворчал:
– Сколь ещё половецких ханов по Степи рыскает, на всех мечей не напасёшься!
На исходе восьмого дня далеко впереди на краю зелёной холмистой равнины обозначилась обширная бледно-голубая гладь, сливающаяся у горизонта с синим небом.
– Гляди-ка, Давыдко, – весело воскликнул Глеб, – море!..
Давыд привстал на стременах и вытянул шею, впившись жадными глазами вдаль. Ему захотелось погнать коня, чтобы увидеть вблизи необъятную морскую ширь. Глебу хорошо смеяться, он-то прожил на берегу моря четыре года.
В этот вечер русичи расположились станом недалеко от морского берега.
Давыд отлучился из становища. Он зачерпнул пригоршней морской воды и попробовал её на вкус. Горько-солёная морская вода обожгла княжичу горло. Давыд закашлялся и утёр рот рукавом рубахи.
Маленькие волны лениво лизали песок у самых ног Давыда.
Красное закатное солнце медленно погружалось вдали прямо в морскую пучину. Небеса на западной стороне полыхали багрянцем. Тёплый ветер шевелил волосы на голове Давыда. То был чужой ветерок с солёным морским запахом.
…Вернувшийся в стан Давыд услышал отцовский голос у костра:
– Ещё прадед мой Святослав Игоревич[62] примучил здешние земли у морского пролива вместе с городом Тмутараканью. Навёл он свои храбрые полки после разгрома волжских хазар на хазар тмутараканских и обложил их данью. Все здешние народы признали власть и силу Святослава Игоревича, а он перед своим походом на Дунай посадил князем в Тмутаракани своего двоюродного брата. Токмо недолго тот княжил здесь, умер он через год после гибели Святослава Игоревича. При князе Ярополке[63], сыне Святослава Игоревича, в Тмутаракани сидел воевода Сфирн, племянник Свенельда[64]. Уже при нём ясы и касоги[65] отказали русичам в дани. Владимир Святой, брат Ярополка, посадил в Тмутаракани своего сына Мстислава[66]…
– Тот, что от венгерки был рождён? – спросил воевода Ратибор.
– Не от венгерки, а от немки, – ответил Ратибору Гремысл.
– Как же от немки, когда от венгерки! – возразил Ратибор. – Была она четвёртой женой Владимира Святого, и звали её… Звали её Гизелла.