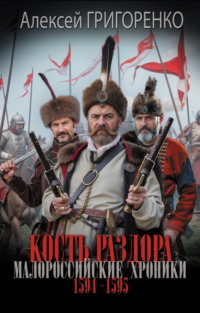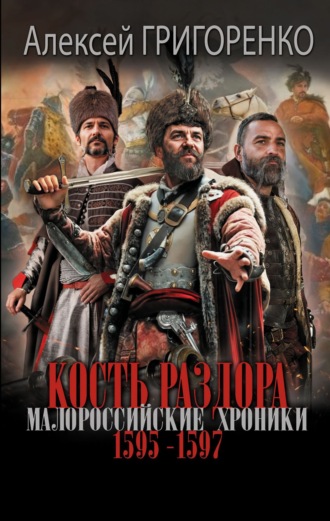
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
„Божьего милостью августейший и непобедимейший христианский император, всемилостивейший государь! Всепокорнейше и чистосердечно передаем вашему императорскому величеству, как верховному главе всех христианских королей и князей, самих себя и свою всегда верную и всеподданнейшую службу. Желаем вашему императорскому величеству, пану нашему милостивому, и просим у Бога всемогущего телесного здравия и счастливого царствования над христианскою страною, и чтобы всемогущий Бог унизил и поверг под ноги вашего императорского величества врагов Святого Креста, турецких бусурман и татар, также чтобы даровал вашему императорскому величеству победу, здравие и все блага, каких вы сами желаете. Всего этого желает вашему императорскому величеству все войско запорожское верно и чистосердечно.
Посланный к нам, запорожскому войску, по воле и приказанию вашего императорского величества, со значительными дарами, наш товарищ Хлопицкий, в настоящее время полковник (то есть начальник над 500 казаками), бывший в прошедшем, 1593 году у вашего императорского величества, пана нашего милостивого, по причине многих опасностей и препятствий, какие он претерпел вместе с послами вашего императорского величества: Эрихом Лясотою и Яковом Генкелем, на пути через польские владения, прибыл к нам только около праздника Св. Троицы. Тем не менее мы задолго до их прибытия, а именно за три недели перед Пасхою, повинуясь всемилостивейшему приказанию вашего императорского величества, выраженному в присланной и объявленной нам здесь за порогами копии с письма вашего императорского величества, не хотели медлить, но, следуя примеру наших предков, промышлявших рыцарским обычаем, и как люди, всегда готовые служить вашему императорскому величеству и всему христианству, по обыкновению нашему, призвали Бога на помощь и на счастье вашего императорского величества пустились в морской поход недели за две до Пасхи, то есть в опасное время года, рискуя жизнью и здоровьем. Узнав за верное от пленных татар, что в Белгороде собралось много войска, конницы и пеших янычар, откуда, по приказанию их государя, турецкого султана, должны вторгнуться в венгерскую землю вашего императорского величества, мы успели, с помощью всемилостивейшего Бога, верховного Владыки, на счастье вашего императорского величества, разрушить и опустошить огнем и мечом пограничный турецкий город Белгород, причем перебили несколько тысяч человек, как воинов, так и простого народа; почему и посылаем вашему императорскому величеству одного пленника из разоренного города и два янычарских значка.
Затем, также в недавнее время, крымский хан, желая вторгнуться во владения вашего императорского величества, прибыл со своим войском к устью Днепра и Буга, близ Очакова, мы, под знаменем вашего императорского величества, пытались отрезать ему переправу; но вследствие значительного превосходства его сил, как сухопутных на конях, так и морских на галерах и кораблях, не могли оказать им должного сопротивления. Однако мы два раза вступали с ними в стычку и захватили знатного пленника, которого также послали бы к вашему императорскому величеству, если бы он не был тяжело ранен. Но Лясота, который сам беседовал с ним и расспрашивал о многом, донесет вашему императорскому величеству обо всем, что узнал от него. Свидетельствуем свою почтительность, как нижайшие слуги вашего императорского величества за присланные вашею императорскою милостью ценные для нас, как людей рыцарских, подарки: знамя, трубы и наличные деньги. Дай Бог, чтобы мы могли с пользою служить в настоящем морском походе, который намереваемся с Божьей помощью предпринять от имени вашего императорского величества; подробности о нем благоволите всемилостивейше выслушать в словесном донесении от посланника вашего императорского величества Лясоты, равно как и от наших послов, Саська Федоровича и Ничипора (оба сотники нашего войска запорожского).
Покорнейше просим ваше императорское величество, как государя христианского, милостиво и с полным доверием выслушать этих наших послов, уполномоченных трактовать о нашем деле. Полковника же нашего Хлопицкого мы отправили с грамотами вашего императорского величества и нашею к великому князю Московскому, как христианскому государю и благорасположенному приятелю вашего императорского величества, прося его прислать нам помощь против турок, что для него не составит затруднения, ввиду близости его границы, а отсюда его войску легко уже будет проникнуть в Валахию или дальше.
Просим также ваше императорское величество обратиться с грамотою к его королевскому величеству и к чинам польского королевства о том, чтобы каждый козак, на основании охранной их грамоты, мог свободно и беспрепятственно выступать в поход, выходить из их страны и возвращаться на родину.
Доводим также до сведения вашего императорского величества, что количество нашего запорожского войска достигает шести тысяч человек старых, отборных козаков, не считая хуторян, проживающих на границах. Ввиду отдаленности пути мы присоединили к упомянутым нашим послам и начальникам еще двух из нашего товарищества. Предлагая еще раз себя и нашу службу со смирением милостивому благоволению вашего императорского величества, пребываем преданнейшими слугами.
Дано в Базавлуке, у днепровского рукава Чертомлыка, 3 июля 1594 года“.
Полномочия запорожских послов„Я, Богдан Микошинский, вождь запорожский, купно со всем рыцарством вольного войска запорожского, сим удостоверяем, что мы с ведома и согласия нашего рыцарского кола отправляем к вашему императорскому величеству, пану нашему милостивому, этих наших послов, сотников вашего войска: Саська Федоровича и Ничипора, уполномочиваем их покончить наше дело с вашим императорским величеством, нашим всемилостивейшим государем, и просим всеподданнейше доверять им во всем, равно как и всему нашему войску, обязываясь этою грамотою и нашим рыцарским словом в том, что во всем удовлетворимся решением, какое состоится между указанными нашими послами и вашего императорского величества и во всем беспрекословно подчинимся этому решению. В удостоверение чего и для большей верности выдали мы нашим послам эту верительную грамоту, скрепленную внизу печатью нашего войска и собственноручною подписью нашего войскового писаря, Льва Вороновича. Дано в Базавлуке, при Чертомлыцком рукаве Днепра, 3 июля 1594 года“.
Июля 2-го дня, повидавшись предварительно с московским посольством, я около полудня отплыл из Базавлука на турецком сандале вместе с запорожскими послами: Саськом Федоровичем и Ничипором и с двумя сопровождавшими их козаками; в ту минуту, когда мы отчаливали от берега, войско запорожское приветствовало нас звуками войсковых барабанов и труб и пушечными выстрелами. В тот же день мы проехали мимо Мамай-Сурки, древнего городища (то есть валов, окружавших древнее укрепление), лежащего на татарской стороне; затем мимо речки Белозерки, текущей из татарской степи и образующей озеро при впадении своем в Днепр, при котором также находится городище, или земляная насыпь, окружавшая в древности большой город. Далее мимо Каменного затона, залива Днепра также на татарской стороне с очень скалистым берегом, от которого и получил свое название. Здесь татары обыкновенно переправляются через Днепр в зимнее время, когда река покрыта льдом; здесь же производится выкуп пленных (odkup). Отсюда начинается высокий вал, который тянется по степи вплоть до Белозерки, а подле него лежит большой каменный шар, свидетельствующий о том, что в древности здесь происходило большое сражение. Затем пришли к Микитину Рогу, который лежал налево от нас, и невдалеке оттуда ночевали на острове близ русского берега.
Июля 3-го дня мы прошли мимо Лысой горы по левой русской стороне [Лысая гора – урочище правого берега Днепра, выше Микитина Рога и теперешнего Никополя] и Товстых Песков, больших песчаных холмов на татарском берегу; затем, почти тотчас, миновали устье Конских Вод; здесь речка Конские Воды, текущая из татарской степи, окончательно впадает в Днепр, хотя и перед тем, еще выше, она несколько раз соединяется с некоторыми озерами и днепровскими заливами, от которых снова отделяется и возвращается в степь. Затем миновали три речки, называемые Томаковками и впадающие в Днепр с русской стороны; по имени их назван и знаменитый остров. Затем мимо Конской Промоины, где речка Конская сливается с днепровскими заливами на татарской стороне; мимо Аталыковой долины, находящейся также на татарской стороне, и мимо Червонной (Chrwora) горы, лежащей на противоположной русской стороне. Далее миновали Семь Маяков (иссеченные из камня изображения, числом более двадцати, стоящие на курганах или могилах на татарском берегу); затем прошли мимо двух речек: Карачокрака и Янчокрака, также впадающих в Днепр с татарской стороны, и мимо стоящей напротив на русской стороне Белой горы. Далее прошли мимо Конской Воды, которая здесь еще впервые сливается с днепровским заливом и образует остров, на котором находится древнее городище Курцемаль, затем другой остров Дубовый Град, получивший название от большого дубового леса. Затем прошли через Великую забору, остров и скалистое место на Днепре близ русского берега, напоминающее порог. Немного дальше на другом острове остановились на ночлег (9 миль). 4 июля миновали две речки, называемые Московками и впадающие в Днепр с татарской стороны; отсюда до острова Хортицы 1 миля; остров этот, лежащий на русской стороне, имеет 2 мили в длину. Пристали к берегу пониже острова Малая Хортица, лежащего невдалеке от первого; здесь находится замок, построенный Вишневецким лет 30 назад и впоследствии разрушенный турками и татарами. Близ этого острова впадают в Днепр с русской стороны три речки, называемые Хортицами, от которых и оба острова получили свое имя. К вечеру мы переправили вплавь своих лошадей с острова, где они паслись, на русскую сторону и там провели ночь.
Июля 5-го дня мы пустились верхом через незаселенные дикие степи, переехали вброд речку Суру, здесь обедали и кормили лошадей, проехав около 5 миль; заметив на одном кургане, или могиле, маяк, то есть поставленную на нем каменную статую мужчины, мы подъехали и осмотрели ее. После обеда проехали около трех миль до одной возвышенности и здесь ночевали подле кургана.
Июля 6-го дня поутру снова переплыли Суру и речку Домоткань и пришли к другой болотистой речке – всего около 4 миль. Здесь кормили лошадей, но перед тем, не доходя до этой речки, встретили медведя и застрелили его. После обеда прошли до речки Самоткани [нужно читать наоборот: Лясота прежде переправился через Самоткань и потом через Домоткань, а не обратно], переправились через нее (около 2 миль) и здесь снова кормили. До этого места степь совершенно обнажена, нигде не видно ни одного дерева, но отсюда уже начинаются заросли, называемые у них байраками, и самая местность становится несколько гористою. К вечеру проехали Омельник Ворскальский (около 2 миль) и немного дальше ночевали в пещере.
7 июля перешли снова через Омельник Ворскальский; в трех милях от него остановились кормить лошадей; затем прошли еще две речки, у последней вторично кормили (около 5 миль). Под вечер приехали к горе (1 миля).
8 июля. До речки Конотопи около 3 миль; здесь кормили. Отсюда в Чигрин, королевский город на реке Тясьмине, принадлежащий к корсунскому староству и подведомственный в данное время некоему Даниловичу (…).
…сентября, передал я свой отчет господам тайным советникам на руки г. Рудольфа Карадуция.
…Я и козаки были удостоены милостивой аудиенции, в присутствии тайных советников, при чем козаки поднесли е. в. два турецких знамени.
…Г. Карадуций объявил мне, что е. и. в. и гг. тайные советники остались вполне довольны моими действиями и подробным отчетом и что в скором времени последует ответ как мне, так и козакам.
…Г. Карадуций объявил мне от имени е. и в., что, хотя он и постановил всемилостивейше принять козаков в свою службу, но что переговоры относительно их жалованья и содержания они должны вести с главнокомандующим в верхней Венгрии, г. Христофом фон-Тифенбахом; потому мы должны отправиться в Вену, где можем его застать.
…После того как Е.И.В. каждому из козацких послов передал деньги на путевые расходы, сверх того каждому выдал денежные награды и заплатил за нас в гостинице, мы уселись на дунайское судно и в тот же день…»
Этими словами заканчивается сей примечательный дневник Эриха Лясоты.
Военные дела в османских пределах, лето и осень, 1595
Чем мог объяснить сам себе пан Ежи-Юрась[10] столь странное поведение как самого короля Сигизмунда, так и прочих значных панов Речи Посполитой – коронного гетмана Яна Замойского, польного гетмана Станислава Жолкевского и славного Стефана Потоцкого – великих воителей и предводителей его громокипящей эпохи? Он, униженный, обобранный, в ранах ножных, не говоря о ранах душевных, с этим поганым подпанком Хайлом на хвосте, лишенный всего, что имел – добр, уважения, имени, – дошед наконец-то до Винницы и поведав о том, что случилось в Брацлаве, винницкому каштеляну пану Стефану Стемпковскому, составив вразумительно грамоту королю о воровстве козаков Наливайко и Лободы, едва залечив раны и отмывшись от липкой грязи, которой он оброс прежде в укрывище у пана Ковальчука, а затем в узилище под своей славной ратушей, встретившись с пани Марысей и Элжабетой, узнал о том, чтобы вместо того, чтобы усмирить мятежников вооруженной рукой и набить на пали зачинщиков, король и паны Жолкевский, Замойский и Потоцкий призвали их… присоединиться к большому ополчению польской Короны противу турок.
Староста Струсь ведал от дозорцев и верных людей, что часть козаков под водительством полковника Григория Лободы оставила Брацлав и отправилась для чего-то в городок Бар. Ведал он также и о том, что с Лободой ушли как раз природные низовцы, собственно запорожцы, а в Брацлаве же осталась самая погань и рвань во главе с Павлом Наливайко, – и от того еще больше болело сердце его и маялась душа: низовые тоже были разбойниками и головорезами, как и другие русины, но жизнь на днепровских островах, в паланках и куренях, все-таки сообщала буйным характерам некую упорядоченность, видимость дисциплины: хочешь не хочешь, но, вступая в братство Сечи, человек брал на себя некие обязательства подчинения, исполнения приказов, неукоснительное и быстрое возвращение с промыслов мирных, когда грянет вечевой колокол или придет оповестка с нарочным на дальнюю заимку где-нибудь в плавнях или в дубравах лесных. Куренные атаманы строго следили за подчиненными козаками, за их поведением в военном походе – так за чарку горилки, потребленную невпопад и не вовремя, можно было жизни лишиться; также атаманы наблюдали за справедливым дележом военных трофеев, не забывая о жертве на церковь Покровы Сичевой.
Выбирая из двух зол меньшее, староста Струсь выбрал бы, разумеется, низовых, но и тут судьба была против него: в Брацлаве осталась сущая сволочь и нелюди, мутной пеной смуты военной прибившиеся к вольнице Наливайко, и ныне, напялив смушковые шапчины и опоясавшись польскими драгунскими саблями из разграбленного брацлавского арсенала, они выдавали себя за козаков, не будучи таковыми. Были там беглые холопы из киевского и полоцкого воеводств, преступники и страшные убийцы из Литвы, которых уже долгие годы ловили по всем землям Речи Посполитой, да не поймали; бродяги без имени и без отчины, были банниты разных мастей, – все они без исключения, если судить по закону и праву, достойны были только виселицы, или, как писалось в судовых актах, если таковые еще составлялись, «кары на горло», отсечения головы или мучительной смерти на палях-колах. Ну а чего еще?.. Не места же почетного в сейме варшавском? Гражданские войны, – думал пан Ежи-Юрась, – по сути таковые и есть: отмена всяких законов, и не только законов державы, гражданином которой ты родился, но даже законов нравственных, законов веры, и неважно – православной или католической – эти законы едины в божественном установлении, – и можно – убить, преступив заповедь «не убий», мотивируя или оправдывая себя неразберихой, случаем нажиться быстро и густо, или приказом (пан Ежи-Юрась усмехнулся в усы: разве возможно представить чтобы эта сволочь «оправдывала» себя или «мотивировала» чем-то и как-то, пока не поймали в капкан?.. Режут, насилуют, грабят и жгут, гогоча во всю несытую глотку!.. Скольких он видел!.. Оправдываться они будут, когда спутают их кандалами ножными и ручными, да на дыбу взденут, выворачивая плечевые суставы, или на мясницкий крюк за ребра зацепят да сбросят с башни висеть на цепи, как допрежь князя Дмитрия Вишневецкого при короле Сигизмунде II Августе турки казнили, – висел три дня на башне Галатской в Константонополе князь, и все не брала его смерть: изрыгал проклятия Магомету и воинству его… Хотя и был князь тот схизматом, хотя и принес неисчислимых бед Речи Посполитой и королю Сигизмунду II, хотя и построил самую первую крепостицу на Хортицком острове и населил ее первыми запорожцами (чтоб сгинуть им скопом в днепровских пучинах!), а потом служил несколько лет московскому царю Ивану IV Грозному, будучи по сути предателем милой отчизны, но староста Струсь не мог не воздать чести его стойкости, его мужеству, – ведь и он сам, и покойный князь-мученик были воинами и солдатами, и, следовательно, были носителями таких свойств, как благородство и честь – этим всегда была сильна Речь Посполитая и ее лучшие, знáчные люди. Да, будут эти бродяги оправдываться, будут врать: не делали-де они того и сего, только смотрели, как делает кто-то другой… А где этот «другой», – ну-ка – ткни пальцем! – А его зарубили (погиб от стрелы, утек или утоп в Буге, или растворился бесследно в степях) – ото он все и делал, – не я!.. Боже мой, думал пан Ежи-Юрась, из года в год, из десятилетия в десятилетие, от смуты к смуте – одни и те же жалкие оправдания, набили оскомину они старосте, тошнит уже от этой брехни!.. Ловил себя на мысли о том, что дали бы ему топор в руки – он сам бы ничтоже сумняшеся рубил бы эти драные головы со свалявшимися оселедцами, эти грязные черные шеи, сильные и жилистые до той поры, покуда не ударит в плаху вслед за катящейся шаром главой столб черной крови, обагряя смертный помост. А ведь так и будет, и здесь не надо быть пророком или провидцем. Надо только подождать. Найти силы на это.
И вот чего он дождался… Временно, до поры, Наливайко оставался в Брацлаве, разрушая все, что некогда сделал пан Ежи-Юрась, и в том ему помогали брацлавские же мещане во главе с войтом Тиковичем-Тищенком, словно сорвавшиеся с цепи, – вот интересно, на что рассчитывали эти толстопузые дураки? – думал пан Ежи-Юрась, – Наливайко рано или поздно оставит город, участь его уже сейчас решена, или они думают, что самовластье их останется на века и Брацлав будет этаким независимым от державы островом в вольном плавании?.. Ну это кем же быть надо, чтобы так помышлять? Общее помешательство… По-другому не скажешь… И в чем же причина его? – вот об этом подумать, об этом – так приливало к разуму пана Ежи-Юрася, когда он в общем строе размышления о недавних событиях и о том, что еще предстояло всем им свершить, вспоминал о Брацлаве. Вспоминал?.. Да как он мог забыть свой город?.. Не вспоминал, нет, – но эта боль об утраченном днем и ночью удручала его, была неизбывной и сильной, – ему казалось, что под воздействием ее он изменяется, преосуществляется, становится другим. Но каким? Разве в его годы возможно еще измениться?..
Наливайко оставался в Брацлаве – и длилось это, кажется, целую вечность. Лобода с низовцами сидел в Баре, неизвестно чем занимаясь, кроме грабежа и поталы окрестностей… Ну, это их природное свойство, отмечал в самом себе пан Ежи-Юрась. И король, и Жолкевский с панами обо всем ведали том – но что же?.. Какие-то жалкие универсалы приходили от короля: выйти из городов, вернуться на днепровские берега-острова, прекратить своевольничать… Но разве того чаял пан Ежи-Юрась? Но это же смешно, ей-богу!.. Да тут надо вот что делать… (пан Ежи-Юрась отлично знал, – что именно), но выходило совсем не по его разумению, а напротив – в ноябре-listopad'е 1594 года Наливайко со своей ватагой, ощетинившейся пиками, вышел из Брацлава, пришел в Бар и соединился там с Лободой. Дозорцы и соглядатаи барские доложили пану Ежи-Юрасю о том, что в целом козаков собралось уже 12 000 человек. Но предводители этого сонмища вели себя до поры мирно, если не считать грабежей барских фольварков и хуторов, мирно – особенно в отношении волынского воеводы князя Острожского.
Наливайко, как было известно всякому насельнику восточных кресов, некогда был сотником его надворного войска, и его брат Дамиан жил при князе с их матерью и сестрой, будучи – вместе с панотцом Иовом Дубенским – духовником князя в Остроге; о Лободе же доносили, что с Острожским он имел письменные сношения, уведомлял его о турецких, татарских и волошских делах и беспрестанно уверял князя в мирном к нему настроении и уважении к его собственности. Как стало известно позже гораздо из специального королевского расследования, когда с Наливайко было покончено, воевода волынский и киевский князь Василий-Константин Острожский, чувствуя себя или бессильным в отношении козаков, или не желая ссориться с ними, услышав о приближении их к своим маетностям, ограничился только тем, что приказал одному из своих слуг выехать в Межибожье и следить за передвижениями этой разбойной орды. В своем письме к недавнему – с 1593 года – зятю своему Криштофу Радзивиллу, великому гетману Литовскому и воеводе виленскому, прозываемому Перуном, Острожский высказался так, что он просит Бога сохранить его от набегов со стороны козаков и об удалении их, как можно подальше от княжеских маетностей, но ни слова не говорил о вооруженном сопротивлении им, тем более – об усмирении. А ведь имел надворное войско такое, что только пану Сангушке в Литве уступал. По слухам, насчитывало оно то ли десять, то ли двадцать тысяч вооруженных и обученных к бою людей. Шутка ли!.. При желании вполне мог разметать бунтовцов, как в 1592 году под Пятком… Надо было только того захотеть и отдать приказ.
Но почему он того не захотел?.. Значит, какие-то планы свои имел в этой смуте? Скорее всего. И планы те, насколько мог судить по известным ему фактам пан Ежи-Юрась, касались церковного устроения. Даже не устроения, а преодоления смуты духовной, которую затеяли честолюбивые епископы Луцкий Кирилл и Владимирский Ипатий с молчаливого согласия киевского митрополита Михаила. Вероятно, козацкий мятеж старый князь хотел повернуть против епископов этих и оказать давление военной угрозой на короля Сигизмунда, чтобы тот хотя бы ослабил покровительство и споспешествование епископам-перекинчикам. Но напрямую сделать того он не мог – ну а как еще? Ведь князь Острожский испокон веку пребывает в высоком державном чине и делании – воевода киевский и волынский, и прочая, прочая… А тут можно было, воспользовавшись наливайковским мятежом, его же руками обделать тайные делишки свои, достичь целей, что касались схизматической церкви и вообще устроения жизни посполитых, исповедывающих православие, патроном и покровителем которых его не без основания считали, – и без ущерба для репутации у короля и можновладных панов Польши.
Но эти высокие замыслы мало касались старосты Струся. Можно сказать, совсем не волновали его. Он знал и ведал ныне одно: гибнут люди, разорены крепкие экономии и фольварки, потерян и отдан на поталу вольной разбойной стихии его город Брацлав, он сам чуть не лишился жизни при том… Кроме того, измена, предательство, подлость восстали в прежде мирных душах как посполитых, так и брацлавских мещан. И это уже не пронять увещеваниями словесными, но придется выжигать каленым железом: казнями и расправами. А это тоже – и люди, и смерти, и память, и озлобление тех, кто остался в живых. Поэтому резоны старого князя Василия-Константина Острожского, – если и были они, – мало касались пана Ежи-Юрася. Так и вышло вовсе не по-старостиному: дозорцы и соглядатаи передавали, что якобы козаки собираются из Бара идти в новый поход в Волощину, оттого и сошлись в Баре. И действительно, Лобода и Наливайко засели в замке города и там совещались о чем-то, дозорцам неведомом, а самый город окружили своим войском и не позволяли никому ни войти, ни выйти из него без ведома козаков. Напрягало старосту и то, что в Баре при Лободе пребывал и некто Станислав Хлопицкий, посланец австрийского императора, а с ним еще какой-то подозрительный иностранец Лясота по имени, – пан Ежи-Юрась понимал, что затевается некое крупное дело, – но Брацлав… Брацлав так и оставался не отомщенным… И это больше всего не давало ему покоя. Впрочем, о каком покое можно было старосте мыслить, если он все потерял?.. Возмездие – только это могло его успокоить.
В начале же следующего несчастливого 1595 года, уже на улицах Винницы, он снова увидел примелькавшиеся еще в Брацлаве козацкие рожи: козаки спокойно просидели в Баре, разграбив окрестности подчистую; в Волощину так никто и не двинулся, а вольница опять разделилась: часть вернулась в Брацлав добирать недограбленное, а часть пришла прямиком в Винницу. При этом и здесь никакого сопротивления козакам никто не оказывал: они, казалось, уже уподобились снегу – ну вот, падает снег, и кому-то это не нравится, но что он может поделать? – снег идет до той поры, пока не прекратится, и конец снегопада, как и прочее все, в руке и воле Божией. Так и козаки эти проклятущие пришли, пограбили, кого-то прибили и ушли, а нам остается только утереть кровавые сопли на морде, пришить оторванный рукав кунтуша да исчесть, сколько голов быдла-скота угнали козаченьки в поля с песнями на потребу, да сколько девок и жен взяли силком на гвалт по известному закону войны… Ну а что тут поделаешь? – снег все идет и идет… Сказал было о том винницкому каштеляну пану Стефану Стемпковскому, но тот ушел от ответа, спрятал голову, как страус, в песок: от короля-де нет наказов касательно козаков, – да их только тронь – от Винницы пепелище останется! Война не объявлена, все будет хорошо, – так что не тревожьтесь, пан Ежи-Юрась, понапрасну… А Брацлав!.. – хотелось выкрикнуть старосте Струсю. – Уже нет ему памяти?!. Но – промолчал. Так молчанием и предавался – в Писании сказано – Бог, так молчанием и потаканием предавалась и его Речь Посполитая…