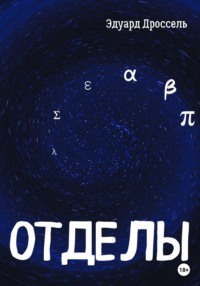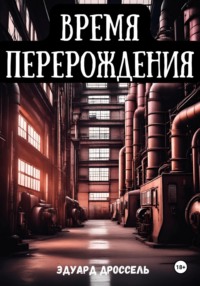Полная версия
Этюды о кулюторных людях и нелюдях
– Молоток! – подбадривает алтайца Валера. – Не тормози, мудохай самого урода!
Хищник вспоминает про складное копьё и хочет пырнуть им Юлдуза. Тот парирует удар лопатой, отводит копьё в сторону и оно намертво застревает в кедровом пне.
– Чукча, топор не потерял? – кричит Валера.
– Никак нет, товалися дембеля! – радостно отзывается Рытхэу. – Моя топол клепко делзы, однако.
– Зашибись. Готовься рубить руку, чтоб чушок инопланетный нас не взорвал. Если в части ничего не предъявим, Липатов с Рябушенко нас в два смычка отдерут.
– Моя всё понимай, товалися дембеля! Кита тополом угоссял, медведя тополом угоссял, Хисьника тозе угоссю, однако!
– Салага, лопатой активней работай! – кричит Валера Юлдузу, сам без устали охаживая Хищника ломом. – Урод не должен уйти отсюда живым!
– Болсую добыцю глусы тем, сто тязолое, однако, – философски замечает Рытхэу. – Так завессял нас тволец Кутха! Кувалда подосла бы луцьсе, но и лом с лопатой тозе холосы…
Поскольку рукопашная драка перестала быть рукопашной, Хищник тоже забывает про честь и пуляет в Валеру диском. Тот что угодно рассекает насквозь, но почему-то застревает в мощном валерином ломе. Тогда Хищник отскакивает, чтобы перегруппироваться, не заметив оленевода, отважно бросившегося ему под ноги. Пришелец спотыкается о чукчу и кубарем летит на землю. Юлдуз со всего маху лупит ему по башке лопатой. Можно дать короткий солдатский флэшбек о том, что перед отправкой на вырубку все инструменты были, как и положено, освящены гарнизонным батюшкой. Это подведёт верующих зрителей к правильному выводу – именно божья благодать сделала высокотехнологичное оружие невоцерковленного пришельца бесполезным перед простыми и примитивными, зато православными и богоугодными орудиями.
Удары сыпятся на Хищника со всех сторон; даже Рытхэу ухитряется огреть его пару раз обухом топора. Инопланетный охотник выдвигает из наручей лезвия и пытается поддеть ими чукчу. Тот отражает атаки топором, корча карикатурные рожи, словно герой индийского боевика (режиссёру и в данном случае предстоит заранее отработать с исполнителем плохую актёрскую игру).
Усеившие вырубку щепки, стружки и опилки пропитаны кровью. Кровь везде – на пеньках, на поваленных деревьях, на сучках, на кедровом лапнике. Из-за этого вся вырубка приобретает багровый оттенок, с вкраплениями брызг ярко-зелёной крови Хищника.
Застрявший всережущий диск всё ещё торчит в ломе. Валера бьёт им по лезвиям из наручей и отсекает их, лишая Хищника последнего оружия. Диск от удара крошится на части… Бездуховным пиндосам понадобилось несколько дней, чтобы одолеть космического охотника, зато наш богоносный стройбат справился не в пример быстрее. Потому что с нами бог!
Своим фантастическим ломом Валера перетягивает Хищника по ногам. Отчётливо слышится хруст раздробленных суставов и сломанных костей. Хищник орёт от боли, широко раззявив клыкастую пасть. Дембель усаживается на него верхом и бьёт кулачищем прямо в оскаленную пасть. Вместе с зелёной кровью во все стороны летят выбитые зубы. Валера продолжает впечатывать кулак в уродливую рожу, пока пришелец не перестаёт дёргаться.
– Ссяс взлывать будет! – напоминает Рытхэу. – Мозно лубить, однако?
– Да, пожалуй, теперь в самый раз. – Валера поднимается с поверженного врага, вдвоём с Юлдузом подтаскивает Хищника к ближайшему стволу и кладёт на него руку пришельца с устройством самоуничтожения. Юлдуз придерживает клешню за запястье, Валера прижимает коленом плечи. Крякнув, Рытхэу с одного удара отсекает руку по локоть (показать крупным планом). Хищник в полебессознательном состоянии, хрипит и харкает кровью. Зелёная кровь фонтаном хлещет из культи.
Отбросив ненужную лопату, Юлдуз обвязывает ноги пришельца верёвкой, затем проворно, как обезьяна, влезает на высокий кедр и подвешивает Хищника вниз головой, как тот сам обычно подвешивал жертвы. Подвешивает невысоко, почти над самой землёй, после чего спускается, берёт у мёртвого поварёнка кухонный нож и хладнокровно перерезает Хищнику яремную вену.
Валера хватает инопланетянина за дрэды и смачно плюёт ему в рожу:
– Это тебе, за нас, за ребят и за Родину, сучара!
Покончив с пришельцем, трое солдат растерянно и устало оглядываются. Вся вырубка завалена расчленёнными телами. Чудом уцелевшая бутылка водки примостилась в мягкой мшистой ямке между бугристых корневищ кедрового пня.
Костёр почти потух. Котелок валяется рядом. Не вся каша из него выплеснулась на Хищника – на дне ещё кое-что осталось.
Не сговариваясь, стройбатовцы накладывают себе каши, открывают банку тушёнки. Валера наливает всем водки. (Музыкальный фон на усмотрение композитора.)
– Щас пожрём и надо будет ребят похоронить, – говорит дембель.
– Холонить надо глубзе, – советует Рытхэу, – а не то звель ласкопает и созлёт.
Валера задумчиво кивает:
– Так и сделаем, оленевод, так и сделаем. А космического урода заберём с собой для Липатова и Рябушенко…
Как-то (на усмотрение режиссёра) нужно показать, что благодаря лекциям политрука Кравцова солдаты в курсе текущей политической обстановки в мире. Они понимают, на какую роль претендует Россия и какой её хотят видеть недружественные державы.
Уминая перловку с тушёнкой, стройбатовцы поглядывают на небо, думая о том, как всё изменится, когда они доставят Хищника в часть. России станут доступны инопланетные технологии, ведь где-то на орбите висит бесхозный корабль Хищника, способный совершать межзвёздные перелёты… Даже туповатому Валере ясно, что будет, когда Россия им завладеет.
– Теперь Америке точно кабздец, – делает он закономерный вывод. – Причём кабздец полный…
Камера поднимается вверх и зависает над солдатами, демонстрируя вид сверху. Затем картина неторопливо уходит вниз. Параллельно идут финальные титры. (Музыкальный фон на усмотрение композитора.) На их фоне камера движется над тайгой, устремляясь по направлению к части. К концу титров показать уже знакомый нам периметр части – это будет маленькая финальная сцена после титров, как сейчас модно в успешных западных фильмах.
В части царит полнейший разгром. Периметр прорван, бруствер перепахан. В ограде зияют прожжёные дыры, вышки повалены и обуглены, одноколейка раскурочена, шпалы выворочены из земли, рельсы перекручены и перекорёжены. Кругом зияют воронки, похожие на язвы, и траншеи, похожие на шрамы. Взорванные и сгоревшие корпуса ещё дымятся. Техника тоже догорает. И везде трупы, трупы и кровь – как на вырубке. Причём трупы подвешены на фонарных столбах и деревьях и с них содрана кожа.
Зритель должен внезапно понять, что Хищник на самом деле был не один. Звездолёт привёз на Землю целую команду охотников. Пока один резвился на вырубке, остальные – с гораздо большим успехом – занялись частью, прикончили всех людей и собрали богатые трофеи.
Таким образом зритель получает намёк на возможное продолжение и не перестаёт сопереживать главным героям. Куда вернутся Валера, Юлдуз и Рытхэу? Что их ждёт дальше? Ответы на эти вопросы давать совершенно не обязательно – канон успешных западных фильмов и сериалов! Пускай зритель остаётся неудовлетворённым, пускай у него постоянно зудит и свербит – это, увы, тоже канон.
Засим, собственно, конец фильма.
Забытые страницы троянского эпоса
Не секрет, что современная Турция пользуется устойчивой популярностью у наших соотечественников всех возрастов и социальных групп. Кто-то, как немолодые одинокие женщины, приезжает в эту страну ради романтических отношений с непритязательными турецкими мужчинами, кому-то интересны её курорты, пляжи, солнце и море, кто-то охоч до специфических кулинарных изысков, а кто-то приезжает в Малую Азию ради работы, ради научных исследований и ни для чего другого. Веселье и развлечения таким людям побоку.
К их числу можно отнести Таисию Ивановну Слепанды, доктора исторических и филологических наук, признанного мирового эксперта по части легендарной Троады. В Турции Таисия Ивановна провела в общей сложности три четверти своей жизни, участвовала во множестве этнографических, филологических, культурологических и археологических экспедиций, привлекалась в качестве почётного эксперта к междисциплинарным исследованиям, а кроме того проводила собственные изыскания на всём средиземноморском побережье Турции – там, где много веков назад стояли греческие города и колонии.
В ходе этой работы Т.И.Слепанды посчастливилось открыть несколько уникальных и неизвестных рукописей, возраст которых можно смело датировать поздней античностью.
К сожалению, нам не известны подробности обнаружения находок. Мы не знаем, как именно Т.И.Слепанды вывезла ценные артефакты из Турции. Замкнутая женщина никого не посвящала в свои дела, даже немногочисленных учеников, и вообще предпочитала не распространяться о личном, отдавая все силы и время служению науке. Главное, что рукописи оказались в Москве и стали частью личной коллекции Таисии Ивановны. Она планировала тщательно изучить и перевести пергаментные свитки, дабы затем попытаться установить их авторство.
Однако довести работу до конца женщине помешала внезапная и трагическая развязка. Так и не научившись за всю жизнь водить машину, Т.И.Слепанды предпочитала пользоваться общественным транспортом. В тот роковой день она везла рукописи в институт ***логии и ***графии РАН на метро. Неизвестный злоумышленник выхватил кожаный портфель из рук растерявшейся женщины и ловко скрылся в толпе, заполонившей переход на станции Китай-город.
Вряд ли это было случайным совпадением. В настоящее время рукописи, скорее всего, уже проданы с какого-нибудь «чёрного» аукциона коллекционерам краденых древностей. Таисия Ивановна ничего не предприняла для их поиска. Трагедия подкосила её здоровье, и беззаветно преданная науке женщина скоропостижно скончалась.
В её бумагах были найдены кое-какие заметки относительно рукописей, судя по которым, эти древние литературные памятники были посвящены Троянской эпопее, её реальным или вымышленным событиям. Также был найден приблизительный перевод (с древнегреческого) рукописи №1414442, сделанный лично Т.И.Слепанды. Эти материалы мы и предлагаем вниманию читателей.
Также мы с негодованием отвергаем возникшие среди клеветников и завистников обвинения Таисии Ивановны в том, что, якобы, она, пользуясь широким научным кругозором, самолично состряпала фальшивки, выдав за подлинники, а затем инсценировала «похищение», дабы мистифицировать научную общественность и вместе с тем избежать разоблачения и ответственности. Хочется напомнить всем недоброжелателям, что среди коллег, родных и близких Т.И.Слепанды известна как серьёзный учёный, человек кристальной честности, положивший на алтарь науки всю свою жизнь. Остаётся лишь сожалеть о том, что её с нами больше нет и о том, что найденные ею бесценные свидетельства древности столь трагично канули в Лету…
Заметки Т.И.Слепанды:
По всей видимости невозможно или, по крайней мере, очень трудно придумать что-то по-настоящему новое. В подавляющем большинстве случаев новое – это в прямом смысле «хорошо забытое старое», даже если обратиться к такой, казалось бы, новизне, как альтернативная история, оспаривающая у официальной право на истинность. Оказывается, не такое уж это и новое явление. У современных альтернативщиков имелись свои предтечи в античности. Это со всей наглядностью демонстрирует нам рукопись №1408538, найденная в [пробел]. Немалое количество подпорченных временем и трудночитаемых мест всё же позволяет установить, что неизвестный автор в своём сочинении оспаривает общепринятую историографию Троянской эпопеи.
Сложно сказать, возникла ли тенденция ставить под сомнение общепризнанные факты в эллинистический период или же сформировалась позже, по мере распространения римского влияния и соответствующего смещения многих цивилизационных и культурологических акцентов и парадигм.
Если верить автору, всё в Троянской эпопее было не так. Никто не похищал Елену из Спарты, никто не захватывал и не сжигал Трою. Гомер и прочие писатели своими полуфентезийными сочинениями запудрили мозги всему человечеству. Слепые и нищие бродяги-аэды жили за счёт подаяний, выступая перед богатыми и знатными слушателями. Пели они, естественно, так, чтобы понравиться публике. Тогдашние аристократы и нувориши возводили свои родословные к древним героям, вот аэды (типа Гомера) и воспевали их, приписывая несуществующие подвиги, перечисляя эфемерные заслуги и достоинства. То есть тешили самолюбие публики, врали самым беспардонным образом, а знать и богачи внимали певцам с восторгом и удовольствием, щедро отстёгивая бабло.
Автор рукописи №1408538 предлагает подойти к истории непредвзято. Как можно поверить, вопрошает он, будто бы Парис, не обладавший никакими достоинствами, кроме тяги к разгульному образу жизни, сумел увлечь суровую спартанскую царевну, которая уже была замужем за могучим воином Менелаем, а перед тем крутила интрижку с не менее могучим красавцем Тесеем, настоящей звездой ахейской цивилизации? Не стоит забывать и о том, что родными братьями Елены были знаменитые на всю Ойкумену диоскуры Кастор и Полидевк. Елена определённо знала толк в мужской доблести, красоте и притягательности. Она и сама была сурова нравом и тяжела на руку – тренировалась на ристалище с мужиками, не стеснялась лупить служанок, а будучи в Трое, запросто давала леща самой Андромахе… Неужели, выйдя за Менелая, Елена вдруг сделалась настолько неразборчивой и равнодушной к собственному достоинству, что сломя голову бросилась в объятия посредственного и никчёмного хлыща Париса?
Возможно ли, чтобы слуги и рабы настолько плохо приглядывали за царевной, что позволили похитить её у себя из-под носа? И неужели троянцы, увидев возле города огромное греческое войско, не предпочли бы выдать беглую жену-блудницу, вместо того, чтобы ввязываться в долгую и кровопролитную войну?
Автор старается убедить нас, будто бы на самом деле всё было иначе. В действительности Парис был одним из женихов, сватавшихся к Елене – как Менелай и прочие ахейские (и не только ахейские) цари и царевичи. Старый Приам послал на сватовство никчёмного Париса, а не доблестного Гектора, потому что, во-первых, у Гектора уже была жена – Андромаха, – а во-вторых, Парис был старше Гектора, что автоматически делало его потенциальным наследником трона, а значит ему необходима была жена, чтобы обеспечить уже собственных наследников. Всё, о чём помышлял ветреный Парис, так это о пьянках и гулянках, а не о женитьбе.
Выбор Елены – чисто меркантильный выбор тщеславной и стремящейся к роскоши провинциальной бабы. Крохотные и разобщённые ахейские царства в то время были жалкими нищебродами по сравнению с Троей, одним из богатейших государств Ойкумены, владевшим всей территорией Малой Азии вплоть до Хеттского царства.
Никому не нужно было похищать Елену, она сама уцепилась за жалкого Париса, лишь бы «прописаться» в богатой и могущественной Трое на правах тамошней царевны. На выбор повлияло и то, что разгульный Парис не осуждал блудницу за рождение внебрачной дочери – плод её греха с Тесеем, – и готов был принять жену без необходимой для первого брака целомудренности. Он увёз Елену в качестве своей законной супруги, потому-то троянцы и не выдали её ахейцам – спартанка стала их законной царевной, за которую они готовы были стоять насмерть.
Оскорблённые тем, что им предпочли иностранца (азиатского «чурку»), греки, в которых ещё сильны были отголоски родоплеменного этнического высокомерия, сговорились, собрали войско и сообща двинулись на Трою. В действительности это вряд ли была настолько огромная армия, как утверждают писатели и историки. Скорее это была просто банда, больше занимавшаяся грабежами окрестностей, нежели столкновением с регулярными троянскими войсками. Потому-то вся эпопея и растянулась на долгих десять лет, а вовсе не потому, что Посейдон с Аполлоном возвели вокруг города неуязвимую стену.
За десять лет войны «великие герои» не совершили по сути ничего выдающегося. Между ними разгорались взаимные ссоры и склоки, рядовые бойцы роптали на ничего не добившихся вождей, им всё надоело, они готовы были всё бросить и вернуться домой. Писатели и историки подали это как «ссору Ахилла с Агамемноном».
Доблестный Гектор на самом деле прикончил «неуязвимого» Ахилла в первом же бою и забрал его доспехи в качестве трофея. Чтобы скрыть этот позорный факт, писатели и историки придумали какого-то Патрокла, который, якобы, был другом (и, по некоторым данным, гомосексуальным любовником) Ахилла и вместе с ним учился воинскому мастерству у кентавра Хирона. Этот, мол, Патрокл тайком нарядился в доспехи Ахилла, а мирмидонцы его в них не опознали…
Автор рукописи обращает внимание читателей на стоявшие в его времена курганы возле Трои – курганы павших героев троянской войны, – и замечает, что никакого кургана Патрокла среди них нет. Стало быть, «Патрокл» – это вымысел!
В самый разгар войны к троянцам подоспели на подмогу союзники – эфиопы и амазонки. Но ведь известно, что союзники верны лишь победителям. Если бы троянцы проигрывали, союзники от них бы тотчас отвернулись.
Наконец ахейцы сами запросили мира и в качестве своеобразного символического искупления возвели на берегу огромную статую деревянного коня, а потом ни с чем уплыли домой. Доказательством тому служит скорый закат Микенской цивилизации Бронзового века. Греки слишком много средств вложили в военную кампанию, в надежде на щедрые трофеи, однако, вернулись ни с чем. Таким образом ахейская экономика оказалась необратимо подорвана… Историю с отрядом хитроумного Одиссея, который спрятался внутри коня и затем поджёг Трою, сочинили специально, чтобы не было так стыдно из-за бесславного поражения. (Здесь автор проводит аналогию с царём Ксерксом, которого греки победили в ходе греко-персидских войн. Вернувшись в Персию, побеждённый Ксеркс объявил подданным, что это он победил греков.)
Ахейцы уплывали из Трои порознь, наспех, в непогоду. Так не бывает после славной победы и дележа трофеев, так бывает после позорного поражения и взаимных раздоров. На родине «героев» встретили по заслугам: Агамемнона убила Клитемнестра со своим любовником, Диомеда изгнали соотечественники, у Одиссея подданные разграбили имущество… Разве так чествуют победителей? Скорее так срывают злость на опростоволосившихся неудачниках, многое наобещавших и не оправдавших надежд. Кто простит вожака, угробившего десять лет и несколько тысяч подданных на сомнительную авантюру, а затем вернувшегося с пустыми руками? Разумеется, опозорившихся неудачников не щадят.
А что же «побеждённые» троянцы? Эней фактически подчинил Италию, Гелен прочно обосновался в Эпире, Антенор завладел Венецией… Они совсем не похожи на несчастных беглецов, спасающих свои жизни, они больше похожи на тех, кто расширяет свои владения и сферы влияния – как на суше, так и на море. Во всех этих регионах до сих пор (имеется в виду время жизни автора рукописи) стоят сильные, могучие города, тогда как Микенская Ахайя, Греция Агамемнона, Ахилла, Одиссея, Геракла, Тесея и Менелая давно исчезла с лица земли…
С вышесказанным частично перекликается рукопись №4441193, найденная в [пробел]. В целом она не отрицает традиционной историографии Троянской эпопеи, но также описывает войну как нечто глобальное, навроде Крестового похода, а не как сугубо локальный конфликт, вызванный спором за право владеть Дарданеллами и, соответственно, взымать мзду с проходящих торговых судов.
Автор также подчёркивает, что вся тогдашняя Микенская Ахайя материально вложилась в поход, с расчётом на солидные дивиденды после победы.
Поначалу кампания шла успешно. Ахейцы, подобно саранче, прошли насквозь всю Троаду и полностью её опустошили. С ней, в глубине суши, граничило Хеттское царство – греки разграбили и его. Богатую добычу погрузили на корабли, пошли южнее и атаковали финикийские земли на территории нынешней Палестины, где захватили несметные богатства. Это те самые филистимляне, с которыми сражался библейский Давид…
Если бы греки на этом остановились и вернулись домой, Микенская цивилизация процветала бы многие века и вся история Европы сложилась бы по-другому. Но опьянённых успехами ахейцев понесло дальше и они напали на Египет.
Государство нильских фараонов в то время пребывало на пике могущества. Отягощённые добычей, изнурённые годами непрерывной резни и развращённые роскошью, греки не были соперниками египтянам. Армия и флот фараона отразили атаку «народов моря», перебили и утопили всех до единого. Обратно в Ахайю не вернулся никто…
Это нанесло колоссальный удар по экономике Микенской цивилизации, столько средств вложившей в снаряжение войска. Расчёты не оправдались, Крестовый поход против государств Азии не окупился. Но хуже всего то, что грянула демографическая катастрофа, ведь война сожрала чуть не поголовно взрослое мужское население. Остались одни бабы, старики и дети. Ну и, само собой, рабы. Пока армия существовала и совершала победы, рабы не бунтовали и никто из воинственных соседей не трогал ахейских баб, стариков и детей. Но стоило египтянам отправить армаду «народов моря» на корм рыбам, ситуация изменилась. Бабы, старики и дети столкнулись лицом к лицу с враждебным миром и некому было их защитить. Некому стало работать, ведь рабы попросту сбежали…
Ситуацией быстро воспользовались северные греки-дорийцы, нецивилизованные горные соседи ахейцев, не менее воинственные, но гораздо менее культурные и развитые. Они захватили Микенскую Ахайю и эта уникальная цивилизация Бронзового века перестала существовать. На несколько веков вся Эллада погрузилась в некое подобие сумерек средневековья, ознаменовавшихся всеобщим и повсеместным упадком и деградацией.
Лишь спустя века на этой земле вновь воссияла цивилизация – известная нам классическая Греция Платона и Аристотеля, Пифагора и Сократа, но это уже была другая Эллада…
Указанные рукописи – это по сути своей плач по утраченной Микенской цивилизации, погибшей по вине самонадеянных ахейцев.
Остальные рукописи, начиная с №1414442, найденные в [пробел] и в [пробел], затрагивают не столько историографию, сколько мифологию Троянской эпопеи и вносят в неё местами дополнения, а местами поправки. (В качестве примера сделан перевод рукописи №1414442 как наиболее сохранившейся.)
Пробный и несколько вольный перевод
пергаментного свитка №1414442,
выполненный Т.И.Слепанды:
Высоко вздымается гора Олимп, чья вершина скрыта среди густых облаков. Так распорядились боги, чтобы никто из смертных не видел с земли их чертогов. Есть у смертных одна неприятная особенность: увидят что-то диковинное, столпятся и давай глазеть да судачить, косточки перемывать. Сами – никто, зато у каждого обо всём есть своё мнение и его непременно нужно донести до остальных. А ведь олимпийские чертоги – не просто заурядное диво, это обитель бессмертных. Ничтожества как прилипнут, так и будут глазеть, с места не сойдут, перестанут работать, позабудут про еду, сон и семью. Тогда роду человеческому безо всякого девкалионова потопа конец… Ну, по крайней мере, грекам, которые под Олимпом живут. Кем тогда боги будут повелевать?
Лишь один Олимпиец не живёт в сияющих чертогах вместе со всеми – хромой и уродливый Гефест. Невдалеке от основания горы высечена глубокая разветвлённая пещера. Надёжно запрятана она в недра Олимпа, ни один удар по наковальне не выходит наружу и не доносится до слуха богов на вершине. Здесь, в своей кузнице, служащей ему одновременно и домом, Гефест коротает дни и ночи.
Сын Зевса и Геры нелюбим своими родителями, ими же он и изуродован. Для остальных богов Гефест – ходячее посмешище и объект нескончаемых издёвок. Над ним глумятся, его дразнят и оскорбляют, ему придумывают обидные и унизительные прозвища. На частых пиршествах Гефест нежеланный участник, да он туда и не стремится. Не по душе ему возлежать за столом, вкушать амброзию и нектар, любоваться танцами нимф и слушать лиру Аполлона или флейту Диониса. Его коренастое тело и могучие грубые руки требуют постоянной работы, тяжёлой, настоящей мужской работы.
Главная обязанность Гефеста – ковать молнии Зевсу. Регулярно, в положенный срок, их забирает Афина, давняя подруга и сводная сестра бога-кузнеца, его соратница во многих славных деяниях. На Флегрейских полях Гефест и Афина бок о бок сражались с гигантами. Огромные и чудовищные отродья Урана и Геи осмелились бросить вызов Олимпийским богам и за это были безжалостно истреблены. Впоследствии эту битву, от которой содрогались земля и небо, назвали «гигантомахией». Гефест тогда сразил Миманта, а Афина после долгого поединка расправилась с Паллантом. Её доспехи оказались измочалены вдрызг и тогда богиня содрала с поверженного великана кожу, крепкую, словно столетний дуб, и натянула на себя вместо доспехов. С ног до головы покрытая кровью, Афина предстала пред остальными гигантами и вид её был столь устрашающ, что те оцепенели от ужаса. Богиня вскочила в колесницу и на всём скаку метнула в Энцелада попавший под руку камень, а этим камнем был остров Сицилия, который и раздавил гиганта в лепёшку… Остальные чудовища так и таращились, позабыв, что к щиту Афины прибита голова Медузы Горгоны. Персей добыл её с помощью богини и преподнёс в дар своей покровительнице. Атакуя гигантов, Афина закрылась щитом и все отродья тотчас окаменели, превратились в горы, которые по сей день высятся в Аркадии…