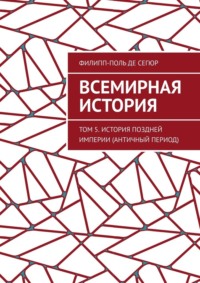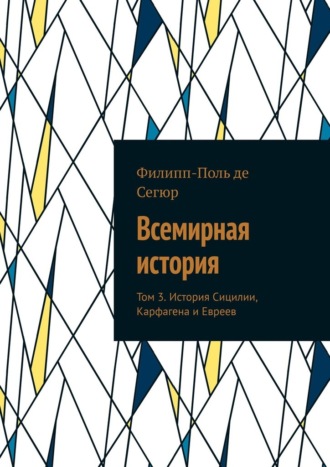
Полная версия
Всемирная история. Том 3. История Сицилии, Карфагена и Евреев
Агафокл, без продовольствия, без снаряжения, без надежды, задумал бросить армию. Его солдаты и даже его сын, разгадав его план, схватили его и заковали в цепи. Вскоре за беззаконием последовал беспорядок: раздоры среди командиров, своеволие солдат, пожар в лагере, страх перед карфагенянами вызвали мятеж. Ночью, воспользовавшись суматохой, Агафокл сбежал, сел на корабль и вернулся в Сицилию. Армия, взбешенная его побегом, убила его сыновей и назначила генералов, которые заключили с Карфагеном договор, по которому карфагеняне обязались перевезти их на их остров и уступить им город Селинунт.
Агафокл, прибыв в Сицилию, набрал новые войска, штурмом взял город Эгесту и перебил его жителей. Как только он узнал о смерти своих сыновей и капитуляции своей армии, его жестокий характер стал свирепым; он приказал своему брату Антандру убить всех сиракузян, которые были связаны кровными или дружескими узами с офицерами или солдатами африканской армии.
Никогда не видели такого массового убийства: улицы были заполнены трупами, стены города и воды моря были окрашены кровью. Это чрезмерное злодеяние вызвало восстание. Изгнанник по имени Динократ возглавил вооруженных граждан и настолько разгромил тирана, что тот запросил мира и предложил уступить ему трон при условии, что ему оставят две крепости. Эти предложения были отвергнуты. Отчаяние вернуло ему силы; он выступил против повстанцев, разгромил их и изрубил на куски. Большой отряд, укрепившийся на горе, капитулировал. Солдатам, входившим в него, обещали жизнь; они сложили оружие, и Агафокл сразу же приказал убить их всех, пощадив только их предводителя Динократа. Его пороки делали его достойным Агафокла; он взял его в соратники и друзья. Агафокл, ненавидимый всеми, достиг того предела, когда жестокость вызывает отвращение, но уже не пугает. Частые заговоры заставляли его бояться оставаться в своем дворце. Из тирана он превратился в пирата, опустошал берега Италии, напал на Липарские острова, мир которых до этого никогда не нарушался, наложил на них тяжелые подати, забрал их сокровища и разграбил их храмы.
Достойная его жизни смерть быстро последовала за этими последними и позорными успехами. Сиракузянин Менон, которого он оскорбил, отравил перо, которым Агафокл чистил зубы. Яд был настолько сильным, что, обжег рот, он быстро распространился по всему телу, которое вскоре превратилось в одну сплошную рану. Еще дыша среди самых ужасных мучений, его положили на костер, пламя которого положило конец его преступлениям и его существованию.
Отряд мессенских солдат, служивших в гвардии Агафокла, которых называли мамертинцами, захватил Мессину. Эти жестокие воины убили всех жителей города и женились на их женах. Сиракузы, почти столь же несчастные, стали жертвой кровавой анархии: Менон, захвативший власть, был изгнан Герактом; последний принял только титул претора; Тимон и Сосистрат, каждый во главе своей фракции, оспаривали у него власть. Карфагеняне напали на них; в этой опасности они призвали на помощь Пирра, царя Эпира, который находился в Италии3. Этот князь, уставший от сопротивления римлян, с радостью воспользовался возможностью покинуть страну, где его оружие мало продвигалось. Кроме того, женившись на дочери Агафокла, он считал себя имеющим права на трон Сицилии.
Тимон и Сосистрат предоставили ему войска, казну и власть; народ принял его как освободителя. Он удовлетворил тщеславие сиракузян, подчинив снова их власти города, которые от них отложились. Его любезность сначала покорила все сердца; но вместо того, чтобы изгнать карфагенян из Лилибея, как того желали, он захотел завоевать Африку. Его наборы людей и денег оттолкнули от него умы; все города разделили недовольство Сиракуз. Его суровость раздражила граждан; от любви перешли к ненависти, от лести – к угрозам. Отозванный затем в Италию, он покинул Сицилию, предвидя, что она скоро станет полем битвы, где судьба Карфагена столкнется с судьбой Рима.
После его отъезда войска захватили власть и выбрали своим вождем Гиерона. Его отец был из хорошей семьи, а мать – рабыней. Он сражался с блеском под началом Пирра; его храбрость, ум и особенно умеренность характера снискали ему всеобщее одобрение. Его провозгласили царем. Его правление было долгим и отмечено актами справедливости. Ему ставят в вину лишь один поступок, который только обстоятельства могли сделать извинительным. В армии существовал отряд недисциплинированных солдат, привыкших к преступлениям и мятежам. Будучи тесно связаны, они не допускали, чтобы кого-либо из них наказывали. Гиерон в битве против свирепых завоевателей Мессены поставил их впереди, бросил, как только они вступили в бой, и позволил всем им быть перебитыми этими жестокими врагами.
Карфагеняне и римляне, как и предсказывал Пирр, вскоре начали войну между собой, оспаривая владение Сицилией. Гиерон сначала поддерживал Карфаген, но затем связался с римлянами и оставался верен им.
Мягкость его правления вернула процветание Сиракузам: он защищал земледелие, торговлю, науки и написал книгу о сельском хозяйстве. Благодаря его заботам государство стало настолько богатым, что во время голода, опустошавшего Италию, он смог бесплатно поставить ей огромные запасы зерна. Родос только что был разрушен сильным землетрясением; Гиерон, чтобы восстановить его, послал туда много денег, мебели и тканей. Подарки, которые он сделал царю Египта, Птолемею Филадельфу, превосходили своим великолепием дары самых могущественных правителей Востока. Но самым удивительным чудом его правления был союз монархии и свободы в стране, где знали только произвол или тиранию.
Не проливая крови, он изгнал раздоры из Сиракуз; и, не применяя суровых мер, он сделал послушным самый беспокойный народ на земле. Он правил пятьдесят четыре года и умер почти столетним, оплакиваемый своими подданными и сожалеемый иностранцами.
Перед смертью он хотел отменить царскую власть, потому что молодость его внука Гиеронима заставляла его опасаться беспорядков во время его несовершеннолетия. Честолюбие его дочери Демараты, жены Андронодора, отвлекло его от этого мудрого намерения. Другая его дочь, Герадея, жена Зоиппа, менее честолюбивая, тщетно противилась интригам своей сестры.
После смерти царя роялистская партия провозгласила Гиеронима; республиканская партия не сопротивлялась и ограничилась тем, что не дала своего согласия. Царь назначил в своем завещании пятнадцать опекунов, выбранных из самых выдающихся лиц Сиракуз. Андронодор изгнал их. Молодой Гиероним предался разврату и вызвал к себе презрение: против него стали злоумышлять. Один из заговорщиков, по имени Теодор, был обнаружен и подвергнут пыткам, но сохранил тайну своих сообщников; он обвинил только друзей царя, и среди других Тразона, ревностного сторонника союза с Римом. Царь без разбирательства казнил всех, кого Теодор ложно обвинил. В это же время римляне хотели возобновить свой союз с царем Сицилии; но, поскольку Тразон умер, они нашли мало сторонников при дворе. Гиероним, который был осведомлен о победах Ганнибала, отказался вести переговоры с Римом и сопроводил свой отказ язвительными насмешками над его неудачами. Однако заговорщики, чьи секреты Теодор скрыл, выполнили свой план. Царь, проходя по узкой улице, был убит.
Он вызывал так мало интереса, что его тело долго лежало на мостовой, и никто не думал убрать его.
Андронодор, узнав о смерти Гиеронима, собрал своих друзей и захватил часть города. Народ был в нерешительности; но заговорщики, освободив Теодора из тюрьмы, заставили войска и граждан объявить себя за него. Андронодор капитулировал, несмотря на уговоры своей жены, которая повторяла ему слова Дионисия: не следует сходить с трона, но нужно позволить себя с него свергнуть.
Народ, чтобы вознаградить Андронодора за его покорность, избрал его магистратом вместе с Фемистом, мужем Гармонии, сестры покойного царя.
Карфагенские агенты, Гиппократ и Эпикид, нелюбимые правящей партией, попросили охрану для отъезда. Им ее предоставили; но по неосторожности не установили срок их отъезда. Они остались и способствовали интригам честолюбивой Демараты, которая постоянно подталкивала Андронодора встать во главе солдат, уничтожить республиканскую партию и захватить трон. Слабый Андронодор согласился на это и доверил свой план Фемисту, своему коллеге. Тот неосторожно рассказал об этом актеру по имени Аристон, который раскрыл все сенату. Приговор против виновных был произнесен немедленно; и как только Андронодор и Фемист появились на собрании, их казнили. Тогда один сенатор, вскочив на трибуну, сказал своим коллегам: вы убили царя Гиеронима; это был не ребенок, это его опекуны, которых вы должны были наказать. Вы доверили им высшие магистратуры, и они вас предали. Их жены, своим необузданным честолюбием, подтолкнули их к заговору; эти фурии – истинные причины всех наших несчастий. Только их смерть может искупить их преступления и обеспечить наше спокойствие. Тогда общий крик выразил желание истребить род тиранов. Преторы, вместо того чтобы сдерживать народ, разжигали его ярость. Демарата и Гармония были убиты. Герадея, жена Зоиппа, не участвовала в заговоре. Ее муж, приверженец республиканской партии, был назначен послом в Египет. Герадея жила в уединении со своими двумя дочерьми. Убийцы ворвались в ее дом; красота принцесс, их невинность, их мольбы, их слезы не смягчили этих варваров. Они закололи мать, облили ее дочерей ее кровью и затем зарезали их. Преступление было совершено, когда приказ пощадить этих несчастных жертв прибыл.
Несмотря на эти кровавые раздоры, Сиракузы, оставаясь нейтральными между Римом и Карфагеном, могли сохранить свою независимость; но народ, ослепленный своими страстями, отдался карфагенянам и даже избрал магистратами Гиппократа и Эпикида.
Марцелл, римский консул, после тщетных попыток убедить сиракузян изгнать этих иностранных магистратов, осадил Сиракузы с суши и с моря. Аппий, во главе армии, руководил атакой со стороны Гексапила; а Марцелл, с шестьюдесятью галерами, – со стороны Ахрадины. Сила и доблесть римской армии быстро одолели бы Сиракузы, если бы этот город не защищал гений Архимеда, величайшего геометра древности. Его мастерство в механике затянуло эту осаду на восемь месяцев. Он изобрел машины, которые поднимали и бросали камни огромного веса; другие сбрасывали на галеры бревна, которые пробивали их; самая необыкновенная из всех выпускала с крепостных стен железную руку, которая захватывала нос корабля, поднимала его в воздух и разбивала, бросая его всей своей тяжестью. Говорят также, что он придумал зажигательное зеркало такой силы, что оно поджигало галеры, оказавшиеся под его лучами. Через восемь месяцев Марцелл, обескураженный бесплодностью своих усилий, превратил осаду в блокаду; и, оставив Аппия перед городом, он провел два года, покоряя почти все города Сицилии. Вернувшись к Сиракузам, он обнаружил, что город снабжается различными конвоями, которые карфагенский флот сумел доставить туда. Потеряв надежду овладеть им, он уже думал об отступлении, когда римский солдат обнаружил у порта Трогил место в стене, более низкое, чем остальные, и которое можно было преодолеть с помощью обычных лестниц. Консул, воспользовавшись этим советом, выбрал для атаки ночь, когда сиракузяне праздновали праздник в честь Дианы. Его войска взломали ворота, преодолели стену и захватили Эпиполы. Шум этого штурма заставил жителей поверить, что враг овладел городом, но район Ахрадины еще сопротивлялся. Эпикид, запершийся там, упорно защищал его. Марцелл предложил осажденным капитулировать и спасти свой знаменитый город от полного разрушения. Они отвергли его предложения.
Гибельная помощь, ужасное бедствие – чума, распространившая свои опустошения в городе и в римском лагере, замедлила усилия Марцелла и продлила срок осады. Его успех казался еще сомнительным, когда к Сиракузам приблизился большой карфагенский флот под командованием Бомилькара. Эпикид вышел из города и убеждал адмирала попытать счастья в сражении; но Марцелл предстал перед ним в таком боевом порядке, что карфагеняне, испугавшись, отступили.
Эта измена обескуражила Эпикида. Вместо того чтобы вернуться в город, он отплыл в Агригент. Ошеломленные сиракузцы запросили капитуляции; в тот же момент перебежчики и иностранные солдаты, опасаясь, что их выдадут римлянам, перебили магистратов и устроили в городе ужасную резню. Среди этого хаоса сицилийский офицер предал Марцеллу одни из ворот Ахрадины. Он вошел в город; и хотя депутаты недавно получили от него обещание пощадить город, он отдал его на разграбление, чтобы наказать за трехлетнее сопротивление: странная несправедливость, которая заставляет порицать во враге добродетель, которую следовало бы уважать больше всего. Марцелл забыл, что мужество побежденного лишь увеличивает славу победителя.
Консул очень хотел увидеть Архимеда, чей гений так долго побеждал римские силы. По его приказу его искали повсюду; наконец солдат нашел его занятым черчением линий и вычислениями, не отвлекаясь от глубокого размышления даже шумом захваченного города. Солдат приказал ему следовать за ним, чтобы предстать перед консулом. Архимед, не сдвинувшись с места и даже не взглянув на него, холодно сказал: «Подожди, пока я найду решение моей задачи». Солдат воспринял этот ответ как оскорбление и пронзил его мечом. Марцелл, опечаленный этим несчастьем, оказал великие почести этому знаменитому человеку, присутствовал на его похоронах и воздвиг ему памятник. Он с почетом обошелся с его семьей и предоставил ей большие привилегии. Сорок лет спустя Цицерон, назначенный губернатором Сицилии, разыскал его могилу. Он узнал ее по колонне, на которой была выгравирована фигура сферы и цилиндра с надписью, указывающей на их соотношение, открытое Архимедом.
После взятия Сиракуз Сицилия, сначала разделенная между римлянами и карфагенянами, вскоре полностью стала римской провинцией.
История Карфагена
Глава I. Основание Карфагена и др.
Карфаген, колония Тира, превзошел славу своей метрополии. Эта республика могла бы стать владычицей мира благодаря своему богатству; но железо и бедность Рима одержали верх над её роскошью: победа роковая, которая принесла разврат в Рим и подготовила его упадок.
Эпоха основания Карфагена неизвестна, авторы расходятся в этом вопросе. Но его разрушение произошло за сто сорок пять лет до Рождества Христова, и, так как принято считать, что он существовал немногим более семисот лет, вероятно, он был основан около 3058 года от сотворения мира, то есть в 946 году до Рождества Христова, эпохи, предшествующей основанию Рима и соответствующей времени, когда Иоас царствовал в Иудее.
Дидона, которую также называли Элиссой, была правнучкой Итобала, царя Тира, отца Иезавели. Муж Дидоны звался Ацербас, Сичербас или Сихей; он был князем, уважаемым за свои добродетели и богатство. Брат Дидоны, Пигмалион, царь Тира, подлый и жестокий тиран, убил Сихея, чтобы завладеть его богатствами. Дидона обманула его алчность, погрузила на корабль сокровища своего супруга и множество преданных ей тирийцев. Она высадилась в Африке, близ Утики, древней колонии финикийцев, в месте, расположенном в шести лье от Туниса. Там она купила участок земли, где жители Утики помогли ей построить город, который она назвала Картада (новый город). Согласно легендам, ей уступили столько земли, сколько можно было охватить бычьей шкурой, и, разрезав эту шкуру на очень тонкие полоски, она смогла окружить огромное пространство земли, на котором построила цитадель, названную по этой причине Бирсой (бычья шкура). Также рассказывают, что при закладке фундамента этой крепости была найдена лошадиная голова, что было воспринято как предзнаменование военной славы, уготованной этому новому народу.
Дидона дала обет никогда больше не выходить замуж. Соседний князь, Ярб, царь Гетулии, пригрозил ей войной, если она не согласится стать его женой. Королева, не желая ни нарушить свою клятву, ни подвергать опасности свой народ, попросила время для ответа, принесла жертву духу Сихея, взошла на костер, заколола себя и погибла в пламени.
История Энея и Дидоны, рассказанная Вергилием, является лишь вымыслом поэта, чтобы польстить римскому тщеславию. Троянский князь не мог знать эту королеву, так как Карфаген был построен через триста лет после падения Трои.
Кажется, что Карфаген, верный памяти Дидоны, не хотел другого правителя, как сама она не приняла другого супруга, кроме Сихея, и с этого момента там было принято республиканское правление.
Новая республика сначала взялась за оружие, чтобы освободиться от дани, которую она платила соседним князьям. Затем она напала на мавров и нумидийцев и стала владычицей большей части Африки. Возник спор о границах между ней и Киренаикой, колонией лакедемонян, расположенной на берегу моря, близ Большого Сирта. Было решено с обеих сторон, что два молодых человека отправятся одновременно из каждого города, и точка их встречи определит границу двух государств.
Два карфагенских брата, по имени Филэны, очень быстрые в беге, достигли места, гораздо более удаленного от Карфагена, чем от Кирены, раньше других. Киренцы, вместо того чтобы соблюдать договор, заявили, что карфагеняне отправились раньше назначенного времени, и отказались признать установленную границу, если только два брата не согласятся быть заживо погребенными на этом месте. Они согласились, пожертвовали своими жизнями ради родины, и их сограждане воздвигли на этом месте два алтаря, названные алтарями Филэнов. Эти алтари обозначали восточную границу владений Карфагена: на западе его границами были Геркулесовы столпы и Мавритания; на юге – Нумидия и пустыни.
Ненависть римлян хотела стереть имя Карфагена с лица земли; и, так как они уничтожили архивы этой республики, мы не знаем ничего достоверного о её ранней истории. Неизвестно, как была упразднена монархия, какой законодатель дал ей новую форму правления; даже неизвестно, в какое время карфагеняне захватили Сардинию: говорят, что Балеарские острова (Майорка и Менорка), знаменитые своими пращниками, были завоеваны карфагенским генералом по имени Магон. Порт Маон до сих пор напоминает имя победителя. Диодор утверждает, что он был братом Ганнибала.
Самым богатым завоеванием Карфагена была Испания, которая тогда делилась на три части: Бетика, включавшая Гранаду; Андалусия, Эстремадура и Кадис. Там находилось двести богатых городов. Лузитания состояла из Португалии и части двух Кастилий. Тарраконская область охватывала всю остальную часть страны до Пиренеев.
Торговля финикийцев давно познакомила с богатствами Испании. Кадис был колонией Тира. Испанцы напали на него; Карфаген встал на его защиту, и иберы, разделенные на мелкие народы, были побеждены. Эпоха этих войн неизвестна; мы знаем только от Полибия и Тита Ливия, что во времена, когда блистали Гамилькар, Ганнибал и Гасдрубал, Карфаген мало продвинулся на полуострове. Но двадцать лет спустя, когда Ганнибал вторгся в Италию, карфагеняне уже овладели всем западным побережьем и большей частью южного, где они построили Картахену; внутри страны границей им служил Эбро. Вот всё, что смутная традиция донесла до нас о Карфагене до его вторжения в Сицилию и войн с римлянами.
Карфагеняне сохранили финикийский или ханаанский язык. Почти все их имена были значимыми: Ганнон означает «благодетель»; Дидона – «любимая»; Софонисба – «благоразумная»; Ганнибал – «защищенный Господом». Слово «Пуны», от которого произошло название «пунический», очевидно, происходит от финикийцев.
Карфаген всегда сохранял тесные связи со своей метрополией. Он платил ей ежегодную дань. Тир, заботясь о его сохранении, предотвратил нападение Камбиса. Когда Александр Великий разрушил столицу Финикии, женщины и дети тирийцев, спасшиеся от резни, нашли в Карфагене вторую родину.
Обе страны почитали одних и тех же богов; Карфаген особенно поклонялся Сатурну, Геркулесу, Юноне, демону, которого называли своим гением, и божеству по имени Целеста. Полибий сохранил для нас договор, заключенный между Филиппом, царем Македонии, и карфагенянами, который начинался так: «Этот договор заключен в присутствии Юпитера, Геркулеса, Юноны, Аполлона, демона Карфагена, Марса, Иолая, Тритона, Нептуна и т.д.»
Селеста, или Урания, была луной. В самые тяжкие бедствия приносили человеческие жертвы Сатурну. Плутарх, с ужасом говоря об этом ужасном обычае, находит атеизм менее отвратительным, чем это гнусное суеверие. Он говорит, что менее оскорбительно для Божества не признавать его, чем оскорблять его и приносить ему в жертву человеческую кровь. Этот варварский обычай был принят почти всеми народами до установления христианства. Его отмена является одним из благодеяний этой моральной религии: счастливая революция, если бы она смогла предотвратить многих тиранов и фанатиков от подражания Сатурну и требования таких же жертв!
Правительство Карфагена должно было быть хорошо устроено, поскольку в течение пятисот лет оно сохраняло эту республику от цепей тирании и беспорядков анархии. В других местах всегда шла война между знатью и народом; но в Карфагене, как в Спарте и на острове Крит, власть богатых и власть народа уравновешивались третьей властью. Она находилась в руках двух верховных магистратов, называемых суффетами, которым многие авторы дают титул царей. Название суффет происходит от еврейского слова шофетим (судья). Суффеты исполняли законы и почти всегда командовали армиями.
Законодательная власть была доверена сенату, состоящему из пятисот членов, выбранных из числа самых богатых граждан. Он устанавливал налоги, составлял законы, решал вопросы войны и мира, принимал послов. Переписка генералов, жалобы провинций адресовались ему; он решал все вопросы верховно, когда голоса не разделялись; но, когда возникали разногласия, мнение большинства выносилось перед народом, который решал окончательно.
Из сената выбирался совет из ста человек, называемый советом старейшин. Их должности были пожизненными; они выполняли функции эфоров в Спарте, цензоров в Риме. Судьи, генералы отчитывались перед ними о своем поведении.
Из совета старейшин выбирались пять человек, обладающих большой властью, которые докладывали сенату о предложенных законах и самых важных делах.
Суффеты исполняли свою власть только в течение одного года. Когда они покидали должность, их называли преторами; это давало им право председательствовать в судах, следить за сбором налогов и предлагать новые законы.
Аристотель, хваля это правительство, делает ему упреки, которые кажутся необоснованными. Первый касается совмещения должностей. Бесспорно, что этот обычай воспитал великих людей в Греции, Карфагене и Риме, заставляя граждан изучать в равной степени искусство войны, науку управления и законы; разные области, но они связаны больше, чем кажется. Их разделение в современное время породило опасный корпоративный дух и губительное соперничество. Это препятствует единству граждан; из-за этого есть много воинов, финансистов, магистратов, юристов, но мало государственных деятелей.
Другой недостаток, который Аристотель осуждал в конституции Карфагена, касается закона, требующего от граждан определенного дохода для занятия должностей. Он считает это правило источником коррупции и жадности; однако бесспорно, что без такого закона невозможна стабильность. Только собственность дает прямой интерес к поддержанию порядка. Заслуги и талант не могут жаловаться на это правило; ибо, если условие собственности не слишком строгое, они почти всегда приобретают достаточно средств для достижения должностей.
Положение Карфагена сделало его торговым; его флот был его силой и основой его богатства. Он получал из Египта лен, папирус, пшеницу, паруса и канаты. Он снабжался на Красном море специями, ароматами, духами, золотом и жемчугом. Финикия отправляла ему пурпур и богатые ткани. Карфагеняне обменивали на это железо, олово, свинец, медь с Запада: они были посредниками всех народов. Карфаген стал благодаря своему мореплаванию связью всех государств и центром их торговли.
Его обвиняют в жадности к богатствам; этот упрек больше относится к его положению, чем к его конституции. Он пользовался преимуществами и страдал от недостатков, присущих любому торговому государству, которое неизбежно, после достижения большой власти и богатства, видит, как его нравы портятся, а сила разрушается из-за роскоши и чрезмерного процветания.
Мощный благодаря своей торговле, Карфаген нашел второй источник богатства, роста и упадка в золотых и серебряных рудниках, которые он разрабатывал в Испании.
Население этой республики было сначала столь же воинственным, сколь и трудолюбивым; но, обогащаясь, карфагеняне становились изнеженными и привыкли вместо того, чтобы сражаться самим, платить наемным войскам.
Карфаген получал от своих союзников и подчиненных народов большое количество солдат. Нумидийцы составляли его кавалерию; испанцы – пехоту; балеарцы поставляли пращников; критяне – лучников; галлы – легкие войска: так что, благодаря своим сокровищам, он набирал огромные армии, не утомляя свое население, совершал завоевания, не проливая своей крови, и превращал другие народы в инструменты своей амбиции.