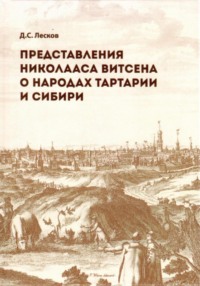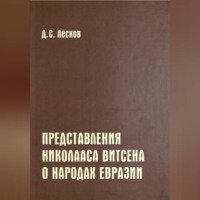Полная версия
Русская самодержица Елизавета
окраинами Российского государства и назывались «украйнами». Если
для Н.И. Костомарова унификация страны не допустима, то С.М. Соло-
вьев считал унифицирование жизни народа центральной части страны
и окраин (особенно Сибири) величайшим достижением царствующей
особы государственного деятеля Елизаветы Романовой.
Отечественные историки этого периода отмечали покрови-
тельство Всероссийской самодержицы Елизаветы образованию, ис-
кусству, православной религии. Н.И. Костомаров называл это покро-
вительство единственно достойным памяти Елизаветы Петровны,
С.М. Соловьев считал, что славных дел было значительно больше, о
них написано в соответствующей части настоящей главы.
Таким образом, в ХΙХ веке в трудах, посвященных российской Ели-
завете I и ее царствованию, отмеченных в данной главе, преобладала
позитивистская школа, за исключением А.И. Вейдемейера, сформиро-
валась основная источниковедческая база, сложились научные пред-
ставления о елизаветинской эпохе, историки, представленные в дан-
ной главе, при создании своих трудов следовали принципу историзма.
–
34 —
Глава 2
САМОДЕРЖИЦА ЕЛИЗАВЕТА
И ЕЕ ЭПОХА
В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ
НАЧАЛА XX ВЕКА
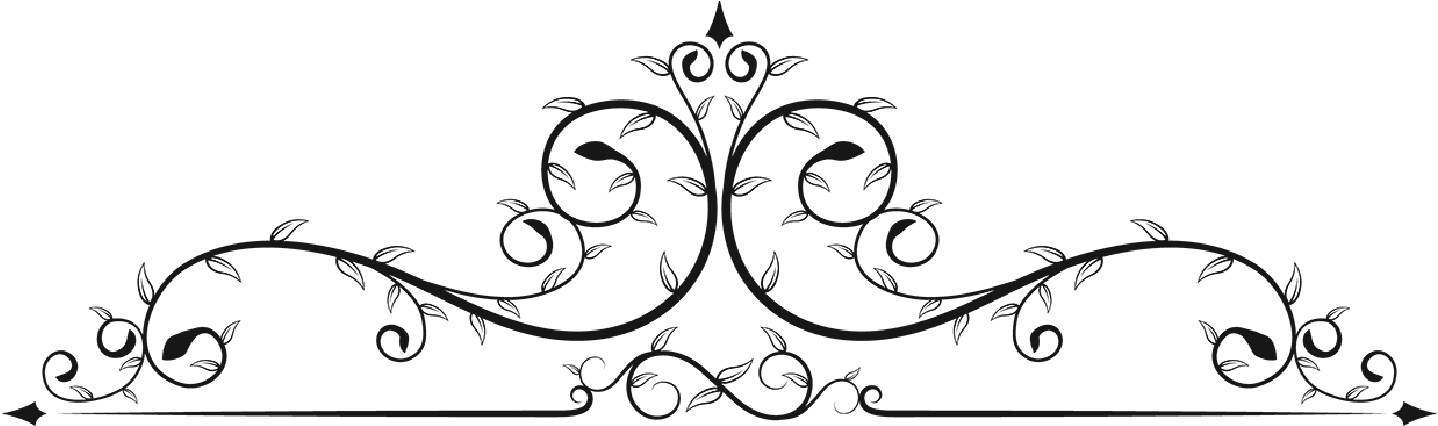
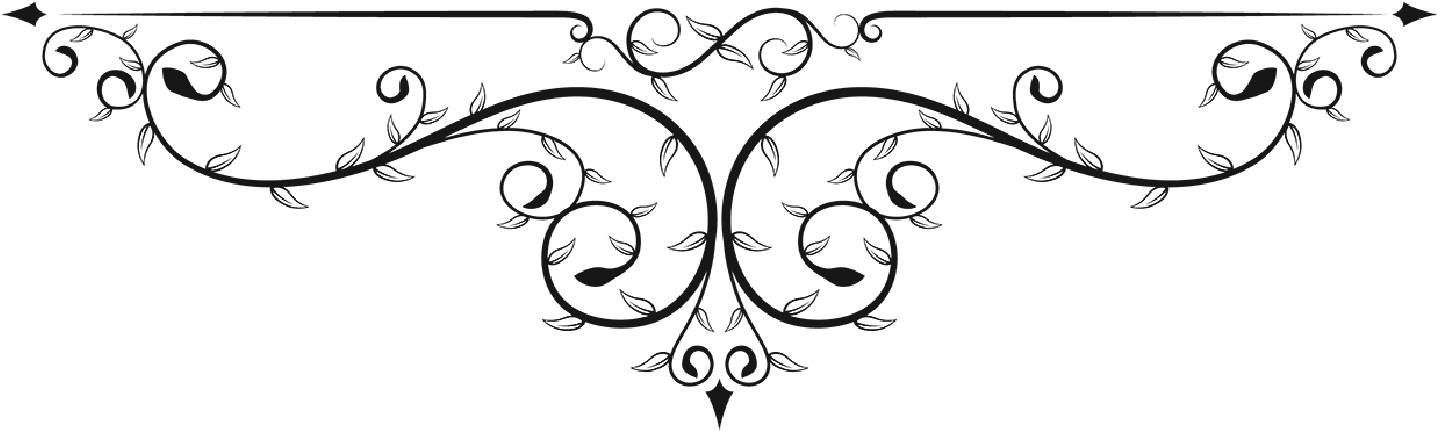
П
родолжая историографические исследования
эпохи царствования Елизаветы Романовой,
переходим к началу XX века. Этот период в на-
стоящей работе представлен тремя трудами. Думается, что начать
нужно с исследований ученика С.М. Соловьева, репрезентанта пози-
тивистской школы В.О. Ключевского (1841–1911 гг.), написавшего
о елизаветинской эпохе очень коротко. Впервые опубликованная
в 1909 году четвертая часть труда «Курса русской истории» В.О. Клю-
чевского, посвященная ХVIII веку, считается исследованием отече-
ственной истории позитивистской направленности. Автор данной
работы считает: утверждение Василий Осипович Ключевский —
историк-позитивист весьма субъективным, он скорее пытался со-
единить позитивизм с релятивизмом. Иными словами, Ключевский
изложение исторических событий на основе выявленных фактов
пытался соединить с относительностью познания этих же собы-
тий. В «Курсе русской истории» он использовал источниковедче-
скую базу своего учителя, создав психологический портрет русской
самодержицы Елизаветы. Историк-государственник Ключевский
считал Елизавету Романову натурой противоречивой, стремился
проанализировать, что стало причиной этих противоречий; к ее де-
ятельности относился гораздо сдержаннее, чем Соловьев. Изучив
множество источников и исследований, российский историк писал
в начале XX века, что царствование самодержицы Елизаветы было
«
не без славы» и также «не без пользы». Он отмечал, что ее моло-
дость прошла «не назидательно». «Ни строгих правил, ни приятных
воспоминаний не могла царевна вынести из беспризорной второй
семьи Петра,.... Подрастая, Елизавета казалась барышней, получив-
шей воспитание в девичьей. Всю жизнь она не хотела знать, когда
нужно вставать, одеваться, обедать, ложиться спать.... В общении
она была то чересчур проста и ласкова, то из пустяков выходила из
себя и бранилась, кто бы не попадался, лакей или царедворец, самы-
ми неудачными словами.»32 – утверждал В.О. Ключевский.
Профессор Московского университета считал, что противо-
речивость дочери Петра I отчасти объяснялась тем, что она жила
между встречными культурными течениями, воспитывалась среди
новых «европейских веяний» и старинных отечественных благоче-
3
2
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. ІV. М.: Мысль, 1989. С. 313.
–
36 —

стивых традиций. По мнению российского историка, оба эти влия-
ния оставили в ее характере свой отпечаток: «она умела совместить
в себе понятие и вкусы обоих: от вечерни она шла на бал, а с бала
поспевала к заутрене, благоговейно чтила святыни и обряды рус-
ской церкви, выписывала из Парижа описания придворных вер-
сальских банкетов и фестивалей, до страсти любила французские
спектакли и до тонкости знала все гастрономические секреты рус-
ской кухни»33. Реальностью воспитательных влияний объяснялись
и неожиданные, и приятные «противоречия в характере» и «образе
жизни» государыни Елизаветы. Историк писал: «Живая и веселая,
но не спускавшая глаз с самой себя, при этом крупная и стройная,
с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила произво-
дить впечатление…»34.
В.О. Ключевский отмечал, что российская Елизавета I самая за-
конная из всех преемников и преемниц Петра Первого, но «восшед-
шая на престол» с помощью мятежных гвардейских штыков, унасле-
довала энергию великого отца. Историк утверждал, что она строила
дворцы и церкви, за сорок восемь часов проезжала путь от Москвы
до С-Петербурга, при этом исправно платила «за каждую» «загнан-
ную лошадь». По его мнению, «беззаботная и мирная», самодер-
жица Елизавета почти половину эпохи своего царствования была
вынуждена воевать: брала Берлин, побеждала «первого стратега»
того времени Фридриха II, «уложила» огромное количество солдат
на «полях Цорндорфа и Кунерсдорфа». Одновременно Ключевский
признавал, что со времен правления царевны Софьи «на Руси» «не
жилось так легко»; и до 1762 года ни одно царствование не оста-
вило таких приятных воспоминаний о себе. Он подчеркивал: «При
двух больших коалиционных войнах, изнурявших Западную Евро-
пу, казалось, Елизавета со своей 300-тысячной армией могла стать
вершительницей европейских судеб; карта Европы лежала перед
ней в ее распоряжении, но она так редко на нее заглядывала, что до
конца жизни была уверена в возможности проехать в Англию сухим
путем, – и она же основала первый настоящий университет в Рос-
сии – Московский»35.
3
3
3
3
4
5
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. ІV. С. 313.
Там же. С. 314.
Там же. С. 314.
–
37 —

Историк, работавший на стыке XIX и XX столетий, считал, что
капризная и ленивая», пугавшаяся любой серьезной мысли, испы-
«
тывавшая отвращение «ко всякому» «деловому занятию», всевласт-
ная правительница Российской Империи Елизавета не могла понять
сложные международные отношения в тогдашней Европе и разо-
браться в «дипломатических хитросплетениях» канцлера А.П. Бес-
тужева-Рюмина. «Смолоду Елизавета была мечтательна…. Вступив
на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в вол-
шебную действительность; нескончаемой вереницей потянулись
спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады,
поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты»36.
Известный историк писал: «Елизавета жила и царствовала в золо-
ченой нищете; она оставила после себя в гардеробе слишком 15 ты-
сяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных сче-
тов и недостроенный громадный Зимний дворец, уже поглотивший
с 1755 по 1761 гг. более 10 миллионов рублей на наши деньги»37.
Отечественный мыслитель был уверен, что в самодержице
Елизавете, где-то глубоко под слоем предрассудков и дурных при-
вычек жил человек, порой прорывавшийся наружу: в обете перед
захватом престола «никого не казнить смертью» и осуществившим
это обещание в указе 17 мая 1744 г., по сути отменившем смертную
казнь в Российской Империи, или в не утверждении «свирепой уго-
ловной» части «Уложения» с изощренными видами смертной казни,
составленной комиссией 1754 г. и одобренной Сенатом. Она не до-
пустила, по утверждению историка, ходатайств Синода о необходи-
мости отказаться от данного ей обета и плакала от несправедливого
решения, «вырванного происками» Синода. Ключевский отмечал:
«
Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная
русская барыня XVIII в., которую по русскому обычаю многие брани-
ли при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти»38.
Основным недостатком царствования Елизаветы Романовой
В.О. Ключевский считал не полное возвращение к делам Петра Ι.
«
Случилось так, что именно Елизаветой, так часто заявлявшей о свя-
щенных заветах отца, подготовлены были обстоятельства, содей-
3
3
3
6
7
8
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. ІV. С. 315.
Там же. С. 315.
Там же. С. 316.
–
38 —

ствовавшие тому, что в сословии, бывшем доселе привычным оруди-
ем правительства в управлении обществом, зародилось стремление
самому править обществом посредством правительства»39 – писал
историк. О самой императрице, как о человеке переходной эпо-
хи, В.О. Ключевский сообщал, что в целом положительных качеств
у Елизаветы было больше, чем отрицательных, ее беспорядочность
сочеталась с умом и добротой. В довершении ко всему вышесказан-
ному, он считал, что правительница Российской Империи Елизавета
знала высокую цену своей подписи.
По мнению автора данного исследования, В.О. Ключевский
в своих сочинениях в основном уделил внимание личности Все-
российской самодержицы Елизаветы, что касается ее правления,
то о нем речь шла лишь тогда, когда он рассуждал о судьбе петров-
ских преобразований. Все написанное отечественным историком о
дочери Петра I, по мнению историка Е.В. Анисимова, изложено с «по-
разительной меткостью», удивляло «метафоричностью» и «глуби-
ной». Но, автор этой работы уверен, все же это был не реальный об-
раз исторической личности, а «портрет», созданный мыслителем,
не всегда углублявшимся в источниковедение документов послепе-
тровской эпохи, т.е. по существу написанный на основе умозаключе-
ний автора лекций по русской истории. В.О. Ключевский, которого
С.М. Соловьев учил, что факты, прежде всего, в случае с Елизаветой
Романовой выступал как собиратель слухов, сплетен и анекдотов;
из нового – у него только создание психологического портрета
Елизаветы.
Следуя системному подходу в историографических исследо-
ваниях, безусловно, необходимо выделить труд С.Ф. Платонова
(1860–1933 гг.), одного из крупнейших отечественных историков
начала ХХ столетия. В «Лекциях по русской истории» в разделах,
посвященных российской Елизавете I, Платонов ссылался на мно-
гие исследования, в том числе, на знаменитый труд С.М. Соловьева
«
История России с древнейших времен». Кроме этого, «Лекции по
русской истории», написанные в начале XX века С.Ф. Платоновым,
примечательны тем, что являлись одной из первых попыток про-
анализировать историографию елизаветинской эпохи. Историк дал
высокую оценку выдающимся исследованиям С.М. Соловьева. Исто-
3
9
Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. ІV. С. 312.
–
39 —

рик-государственник, историк-монархист Сергей Федорович Пла-
тонов, в основе историко-философских воззрений которого лежала
скрупулезная проверка первоисточников, утверждал, что значение
времени русской самодержицы Елизаветы оценивалось и «до сих
пор» «оценивается различно». У одних она пользовалась «большой
популярностью», но были современники, которые с осуждением
вспоминали время и порядки императрицы Елизаветы, таковыми
были, например, Екатерина II и Н.И. Панин. Платонов подчеркивал,
что смотреть на эпоху дочери Петра I со снисходительной улыбкой
было модно во второй половине XVIII века, естественно, тон этому
задавала Екатерина II. В качестве доказательства историк-государ-
ственник цитировал С.В. Ешевского: «С тех пор (с Петра Великого)
до самой Екатерины Великой русская история сводится к истории
частных лиц, отважных или хитрых временщиков, и истории борьбы
известных партий, придворных интриг и трагических катастроф»40.
Эта оценка была не справедлива, утверждал Платонов, поскольку не
признавала за царствованием российской самодержицы Елизаветы
никакого значения. В противовес он приводил мнение С.М. Соловье-
ва, отмечал, что классик отечественной исторической науки глубо-
ко изучил эту эпоху, и писал о ней с уважением. С.Ф. Платонов счи-
тал точку зрения выдающегося историка более справедливой, чем
враждебные самодержице всероссийской Елизавете взгляды, и со-
глашался с мнением Соловьева, что ее царствование подготовило
русское общество к переменам екатерининского времени. «Но, при-
знавая такое историческое значение за временем Елизаветы, мы,
однако, не должны преувеличивать его. Мы увидим, что при Елиза-
вете, как и раньше, много значили «припадочные люди», т.е. фаво-
риты: делами управляла «сила персон», к порядкам Петра Великого
вернулись далеко не вполне; в управлении государством не было
определенной программы, а программа Петра Великого не всег-
да соблюдалась и не развивалась. Идеи Елизаветы (национальные
и гуманные) вообще выше ее деятельности (несистематической
и малосодержательной), и историческое значение времени Елиза-
веты основывается именно на этих идеях. Причины всех особенно-
стей правления Елизаветы заключались, во-первых, в той обстанов-
ке, какую Елизавета получила от своих предшественников, вступая
на престол (эту обстановку мы уже знаем), а во-вторых, в свойствах
4
0
Цитата по Платонов С.Ф. Курс русской истории. М.: Вече, 2006. С. 468.
–
40 —

самой Елизаветы и ее сотрудников»41 – писал ученый, сторонник
строгой законности.
Кроме того С.Ф. Платонов, как и некоторые вышеупомянутые
отечественные историки, отмечал неподготовленность Елизаветы
Петровны к делам управления страной. А медлительность, с кото-
рой она осуществляла дела, объяснял сдержанностью и осторож-
ностью, благодаря которым государыня отыскивала наилучшее
решение при «разноречивых» советах и всевозможных «влияниях».
Однако, историк признавал, что когда решение созревало, самодер-
жица Елизавета не ленилась его осуществить. Он утверждал: «Во
всяком случае, в государственных делах императрица, давая общий
тон правительству, не вмешивалась деятельно в частности управ-
ления и предоставляла их своим сотрудникам. В частном быту Ели-
завета была чисто русским человеком, любила повеселиться, хоро-
шо покушать и распустила придворных настолько, что хроника ее
дворца была не беднее анекдотами, интригами и сплетнями, чем
предыдущее время, несмотря на большую крутость Елизаветы, спо-
собной сильно вспыхнуть и строго взыскать»42.
В дополнение ко всему, классик отечественной истории начала
XX-го столетия отмечал значительную роль в замечательных и не
очень делах той эпохи людей, окружавших самодержавицу Елизаве-
ту I. Платонов писал: «Бестужев был образованный практик, Иван
Иванович Шувалов – образованный теоретик, Петр Иванович Шу-
валов – малообразованный и себялюбивый корыстный делец, Алек-
сей Разумовский – необразованный бескорыстный человек. Нет ни
одной внутренней черты, которая бы позволила характеризовать
их всех одинаково с какой бы то ни было стороны»43. То есть он при-
знавал, что жили они очень «не согласно», поэтому при государыне
Елизавете было много интриг. Кроме личных характеристик историк
отмечал деловые качества деятелей времени Елизаветы Романовой:
А.Г. Разумовский был замечательным человеком, а в истории госу-
дарства – совсем «незаметным деятелем»; П.И. Шувалов считался
человеком без принципов, без морали, он представлял собой «темное
лицо» царствования самодержицы Елизаветы. Совершенной проти-
воположностью ему, по мнению известного российского историка,
4
4
4
1
2
3
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М.: Высшая школа, 1993. С. 576-577.
Там же. С. 577.
Там же. С. 582.
–
41 —

был И.И. Шувалов, заметная личность в истории «русской образо-
ванности». С.Ф. Платонов акцентировал: «Лаской и гневом она уме-
ла тушить ссоры и устранять столкновения, но объединить не могла
никого, несмотря на то, что не была лишена ума и хорошо понимала
людей. Она могла иногда подгонять лиц, ее окружавших, но управ-
лять ими не могла. Не было объединителя и среди ее помощников.
Понятно, что такая среда не могла внести в управление государством
руководящей программы и единства действий; не могла подняться
выше, быть может, прекрасных, но, по существу, частных государ-
ственных мер. Так и было. Историк может отметить при Елизавете
только национальность общего направления и гуманность прави-
тельственных мер (черты, внесенные самой Елизаветой), а затем ему
приходится изучать любопытные, но отдельные факты»44.
Главным фактором в управлении и политике эпохи Елизаветы
Петровны С.Ф. Платонов считал перемены в положении сословий
дворянства и крестьянства. Самодержица всероссийская закрепила
указом 1758 года право дворян иметь крепостных крестьян и «не-
движимые имения». Это право превратилось в сословную привиле-
гию, и резко отделило дворян от низших классов, то есть, дворян-
ство получало статус привилегированного сословия в Российской
империи и наследовало эти привилегии. Историк-позитивист под-
черкивал, что возвышение дворянства было связано с ухудшением
быта и уменьшением прав крестьянства. Передача крестьян «исклю-
чительно» в дворянское владение крепче привязывала их к опре-
деленному кругу владельцев, закон увеличивал власть помещика
над крестьянами. Платонов писал: «Право передачи крестьян было
расширено: в 1760 г. помещику дано было право ссылать неисправ-
ных крестьян в Сибирь, причем правительство считало каждого со-
сланного как бы за рекрута, данного помещиком в казну; наконец,
крестьяне были лишены права входить в денежные обязательства
без позволения своих владельцев»45. Иными словами, по утверж-
дению историка, правительство передавало дворянам часть своих
функций и власти над крестьянами, и это создавало условия для
дальнейшего усиления крепостного права. Справедливости ради,
надо признать, что во времена царствования Елизаветы Романовой,
ссылаемые «неисправные» крестьяне обустраивались в местах вы-
4
4
4
5
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. С. 582-583.
Там же. С. 586.
–
42 —

сылки на поселение за счет государственной казны. При Екатери-
не II «неисправных» крестьян, высылаемых в Сибирь, приравняли
к ссылаемым на каторгу.
Известный отечественный историк, работавший на рубеже двух
веков XIX и XX, также отмечал, что в елизаветинскую эпоху дворян-
ство по-прежнему стремилось избегать государственной службы.
Но, как и раньше «службу с дворян» «спрашивали строго»: за неявку
на службу на них налагались «суровые кары». Правительство Ели-
заветы не решалось снять с дворян обязанность службы или облег-
чить ее, оно опасалось «остаться без людей».
Об управлении во времена дочери Петра I С.Ф. Платонов писал:
«Хотя Елизавета не во всем была верна духу своего отца, хотя ее
царствование не внесло полного благоустройства в жизнь народа
(сама Елизавета в конце царствования сознавалась, что зло, с кото-
рым она боролась, «пресечения не имеет»), однако народ оценил и гу-
манность, и национальность ее правления. Отдохнувшее под властью
русских людей, в течение мирных лет, народное чувство понимало,
кому оно обязано долгим спокойствием, и Елизавета царствовала спо-
койно и стала весьма популярной государыней; можно сказать, что
славой и популярностью своей в народе, она обязана много своему
Сенату. В этом оправдание правивших в Сенате «случайных людей»
Елизаветы, о которых так незаслуженно зло отозвалась Екатерина»46.
Иными словами, если коротко характеризовать отношение
Платонова к эпохе царствования самодержицы Елизаветы, то для
него это была эпоха «немногих славных дел» и отсутствия «систе-
мы». Саму Елизавету Романову он считал энергичным правителем,
которая при этом не всегда могла управлять своими «сотрудника-
ми». Историк-монархист осуждал невозвращение к начинаниям Пе-
тра Первого в отличие от Соловьева, который считал, что движение
вперед в елизаветинскую эпоху было гораздо дальше, чем в петров-
скую. Академик С.Ф. Платонов уделял большое внимание усилению
в Российской Империи крепостного права в 40–50-е годы XVIII века,
считал, что сословие дворян во времена правления самодержицы
Елизаветы начало превращаться в класс общества, стремившийся
освободиться от государственной службы. Платонов отмечал, что
правление Елизаветы Петровны встречало в трудах историков раз-
личные оценки, но сам он все же признавал, что, несмотря на неко-
4
6
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. С. 591.
–
43 —

торые промахи, было много дел, которые могли охарактеризовать
эпоху российской Елизаветы I благоприятной для подданных.
Подводя итоги вышесказанному, нужно подчеркнуть, что исто-
рик-государственник постарался дать объективные оценки самой
Елизавете Романовой, экономике, внешней политике и межсослов-
ным отношениям ее эпохи. Одним словом, Платонов придержи-
вался позитивистского направления в изучении елизаветинского
царствования, кроме того расширил источниковедческую базу ис-
следуемого периода. С.Ф. Платонов был убежден, что елизаветинская
эпоха была самобытной; самодержицу Елизавету называл крупным
законодателем, заложившей базу для последующих реформ в раз-
личных областях русской жизни. Автор этих строк считает, это ут-
верждение историка-позитивиста, безусловно, характеризует цар-
ствующую Елизавету Романову как государственного деятеля.
В начале ХХ века, кроме упомянутых выше В.О. Ключевско-
го и С.Ф. Платонова о русской Елизавете и ее царствовании, писал
К. Валишевский (1849–1935 гг.). Книга француза польского проис-
хождения «Дочь Петра Великого» вышла в 1909 году, одновремен-
но с «Сочинениями» В.О. Ключевского, посвященными елизаветин-
ской эпохе. Для создания труда Казимир Валишевский использовал
источниковедческую базу, созданную С.М. Соловьевым и личную
переписку современников самодержицы Елизаветы. Также источ-
никоведческая база его исследования была расширена архивами
французского министерства иностранных дел и мемуарами ино-
странцев современников российской императрицы Елизаветы. Аб-
солютное доверие историка к последним, несколько снижает сте-
пень объективизма исследования К. Валишевского. В книге «Дочь
Петра Великого» автор составил неоднозначный портрет всерос-
сийской самодержицы Елизаветы и ее эпохи. Используя для созда-
ния книги воспоминания ее современников, он пытался порой ана-
лизировать эти источники, но чаще верил им безоговорочно.
Исследуя царствование самодержавицы Елизаветы, Валишев-
ский не мог не остановиться на ее характере. Он подчеркивал: «Ели-
завета ни своим нравом, от природы безпечным и причудливым, ни
небрежным воспитанием, полученным ею, не была подготовлена
к занятию престола. Но в качестве дочери Полтавского героя, ей все