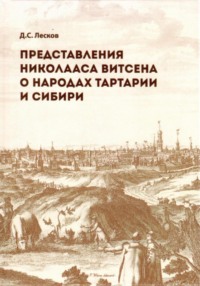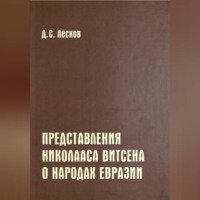Полная версия
Русская самодержица Елизавета
своих действий?… Сие было в особе Графа Петра Ив. Шувалова. Имя
сего мужа, памятное в России, не токмо всем вредом, который сам
он причинил, но и примерами, которые он оставил к подражанию»8.
Кроме того, историк сообщал о расстройстве финансов и осуждал
чрезмерную власть «худородных» фаворитов Разумовских и Шува-
ловых, будучи сам представителем родовитой знати, презиравшей
«
худородных» вельмож. Подчас М.М. Щербатов просто возводил на-
праслину на «героев» своего произведения – памфлета, в котором
стиль повествования о приемниках Петра I построен по принципу
движения от плохого правителя к еще более худшему.
Подобные труды, несмотря на необъективность, как и мемуа-
ры современников, являвшихся недоброжелателями самодержицы,
к числу их относилась Екатерина II, французский посланник Жак
Шетарди и другие, интересны тем, что те положительные качества
российской Елизаветы Ι и ее соратников, которые приводились
в этих сочинениях, являлись фактами неоспоримыми, поскольку их
признавали недоброжелатели, явно не настроенные петь панегири-
ки императрице Елизавете, либо ее окружению.
В данном контексте интересны донесения послов, поскольку
были случаи, когда посол враждебной страны, не скрывая анти-
патии, признавал достоинства российской Елизаветы I. К таковым
7
8
Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // О повреждении нравов
в России. Кн. М. Щербатова и Путешествие. А. Радищева. М.: Наука, 1983.
С. 54-55.
Там же. С. 62.
–
14 —

можно причислить дипломата, негативно относящегося к Елизавете
Петровне, министра иностранных дел Франции кардинала Андре-
Эркюля де Флёри. Он считал, что ее правление было величайшим
благом для Российской Империи, потому что больше всего она лю-
била свой народ и воспринимала его интересы «как свои». На ранних
этапах своей карьеры, накануне переворота, нечто подобное писал
о царевне Елизавете Шетарди, утверждая, что принцесса выше все-
го ставила интересы своего народа и ни за что не соглашалась на то,
что не соответствовало его (народа) интересам: «… она всегда будет
опасаться упреков от своего народа, если какими нибудь уступками
пожертвует им для прав, которыя может предъявить на престол»9.
Другой французский посланник Луи де Алион писал, что она люби-
ла свой народ и еще больше боялась его. Позже посол королевства
Франции в России с 1760 г. по 1764 г. Луи Шарль де Бретейль отме-
чал, что всероссийская Елизавета I в совершенстве обладала талан-
том политика, владела искусством притворства, проницательным
умом, и никто не мог сказать, что владеет самодержицей или «мо-
жет» «читать в ее сердце».
Не все современники Елизаветы Петровны высказывались не-
гативно о государыне и ее царствовании, например, А .Т. Болотов счи-
тал ее правление «лучшей из эпох» и утверждал, что ни при одном
правителе не жилось так хорошо. Он писал, что известие о кончине
государыни Елизаветы вызвало всеобщую скорбь. «Я остолбенел
и более минуты не знал, что говорить и что делать. Все канцеляр-
ские наши находились в таковом же смущении духа, все тужили
и горевали о скончавшейся»10.
Личность государственного деятеля Елизаветы Романовой и ее
царствование в трудах отечественных историков XIX и XX веков не
были предметами специального исследования. Литература темы
фактически сводилась к кратким экскурсам в общих трудах по от-
ечественной историографии и монографических исследованиях,
посвященных трудам того или иного историка. Если сравнивать ко-
личество историографических трудов о Петре I и его дочери, то пре-
имущество будет явно не за последними.
9
1
Пекарский П.П. Маркиз де ля Шетарди в России 1740-1742 гг. СПб., 1862.
С. 244.
Болотов А .Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. Ч. 2. СПб., 1871. С. 209.
0
–
15 —

Поэтому автор этих строк считает: в настоящей работе необхо-
дим анализ трудов отечественных историков ХΙХ–ХХ в.в., и одновре-
менно с этим исследование представлений историков о личности
и деятельности российской самодержицы Елизаветы. Это позво-
лит проследить процесс становления личности дочери Петра I, ее
царствования и исследования успехов правления самодержавицы
Елизаветы, как государственного деятеля. Автор данной работы на-
мерен следовать принципам историзма, системного подхода и на-
учной объективности. Принцип историзма имеет универсальное
значение в исторических и историографических работах. Он тре-
бует изучения всякого явления в его развитии, конкретно истори-
ческой обусловленности и индивидуальности; частично позволяет
избежать субъективизма в оценке любого направления развития
исторических взглядов и концепций. Полагаю, системный подход,
ориентирующий исследователя на раскрытие целостности слож-
ного объекта: деятельности российской Елизаветы I поможет вы-
делить многообразие типов связей объекта изучения – личности
государственного деятеля Елизаветы Романовой и составить из них
единую «картину». Применение объективности научного подхода,
которая предполагает всесторонний охват исследуемого объекта
с целью выявления многообразия связей с историческим миром,
требует опоры на доступный уровень научных знаний с учетом вы-
двинутых по данной теме точек зрения.
Автор данного исследования утверждает: проведенный в после-
дующих трех главах анализ исторических трудов о Всероссийской
самодержавице Елизавете I и ее царствовании позволит выявить
основные историографические вопросы темы, изучить подходы
историков к исследованию тех или иных событий елизаветинской
эпохи, выявить основные представления о российской самодержи-
це Елизавете и ее царствовании среди нескольких поколений исто-
риков.
–
16 —
Глава 1
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИСТОРИКИ
XIX ВЕКА
О ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ
И ЕЕ ЦАРСТВОВАНИИ
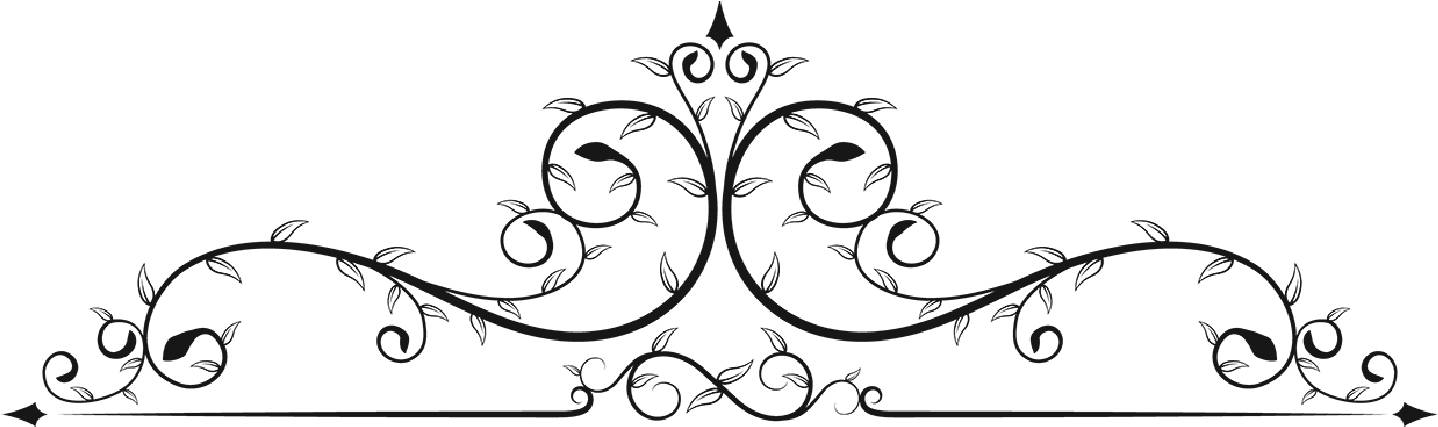
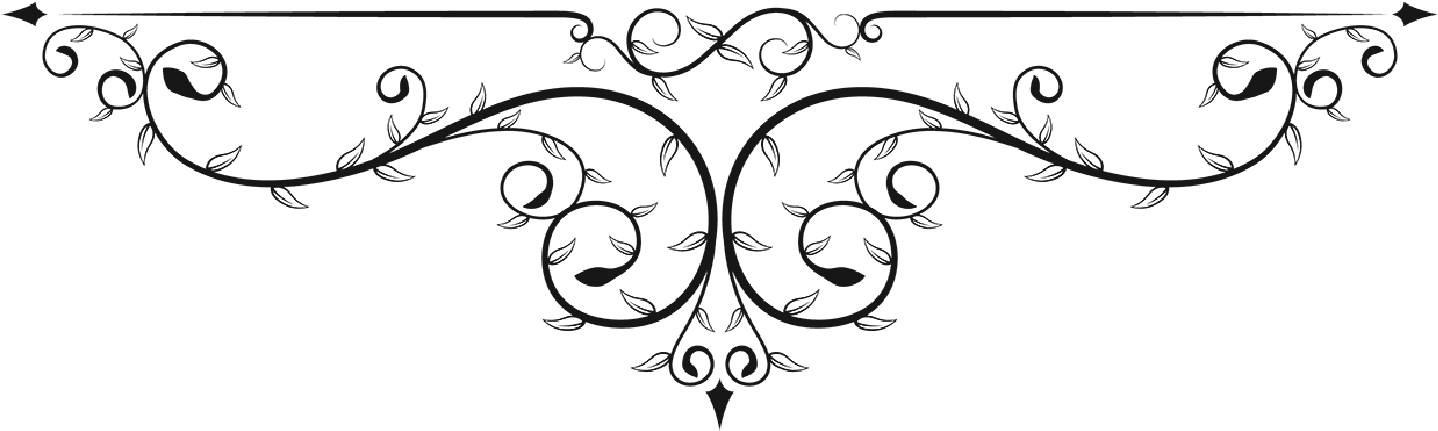
В
данном исследовании представлены исторические
концепции об эпохе правления и личности Елиза-
веты Романовой историков, не принадлежавших
к XVIII веку. В течение двух столетий историки по-разному относи-
лись к российской Елизавете I, ее царствованию, людям, окружав-
шим императрицу. Конечно, наибольший интерес представляет
мнение этих знаменитых людей о личности Елизаветы, о внешней
и внутренней политике ее эпохи, о достижениях в экономике, о пре-
образованиях в науке и образовании, архитектуре и искусстве.
Следуя принципу историзма, первым отечественным истори-
ком в списке наших историографических исследований, писавшем
в ХIХ веке о царствовании Елизаветы Петровны, можно отметить
А.И. Вейдемейера (1789–1852 гг.). В своем труде «Царствование
Елизаветы Петровны», изданном в 1834 году, он излагал только
факты, используемая источниковедческая база была очень скуд-
ной, состояла в основном из воспоминаний современников. Глав-
ным объектом этого исследования была вся елизаветинская эпоха
и, прежде всего, деятельность самодержицы; придворный истори-
ограф не углублялся в анализ, а лишь сообщал о событиях этого
периода. Исключение составляла Семилетняя война (1756–1763 гг.
[7264–7271 гг.]), здесь он излагал свое мнение: считал, что
война истощила казну. Об остальных событиях эпохи и о самой импе-
ратрице Елизавете автор нескольких исторических сочинений, как
представитель традиционной дворянской историографии, отзы-
вался в основном в хвалебных тонах. В книге, посвященной правле-
нию Всероссийской самодержицы Елизаветы, Александр Иванович
Вейдемейер называл ее царствование славным, хвалил мероприя-
тия государыни в области образования: открытие университета,
гимназий, кадетского корпуса, Академии художеств. Также он отме-
чал развитие финансовых учреждений, увеличение производства
металлов, сукна; не осталась в стороне от внимания придворного
историографа религиозность дочери Петра Первого. Историк пер-
вой половины XIX века считал государыню Елизавету образован-
ной, уважительно отмечал ее покровительство наукам, искусству
и православной религии. «Елисавета Петровна имела всю светскую
образованность: сверх природнаго языка, говорила свободно и пра-
вильно по-Французски и по-Немецки; Италиянский язык понима-
ла так хорошо, что могла на оном все читать. Иван Иванович Шува-
–
18 —
лов возродил в ней охоту к музыке, живописи и ко всем приятным
искусствам.»11 – писал А.И. Вейдемейер. Конечно же, не мог он не
отметить любовь самодержицы к увеселениям и роскоши, впрочем,
не столько в одежде, сколько в архитектуре и внешнем убранстве
дворцов, например, Зимнего и Царскосельского. Естественно, при-
дворный историограф не забыл про любовь всемилостивой пра-
вительницы Российской империи к нарядам и танцам. Государыня
Елизавета, по его утверждению, обладала чувством юмора, но не
любила грубых шуток петровской эпохи, и сама никогда не шутила
в оскорбительной манере. Историк также отметил любовь дочери
Петра I к охоте и зимним забавам. Об отношении самодержицы Ели-
заветы к делам А.И. Вейдемейер писал, что в молодости государыня
часто присутствовала в Сенате и занималась делами и, хотя иногда
порывалась уйти в монастырь, но ни в молодости, не под старость
не сделала этого. По мнению письмоводителя в Сенате, она много
работала в первое время «по вступлению» на престол, к концу жиз-
ни стала отходить от дел из-за болезни и лишь в последние годы
подписывала «бумаги» с опозданием.
А.И. Вейдемейер уделил большое внимание внешней политике
елизаветинского царствования, в частности, отношениям с Австри-
ей, войне со Швецией и Семилетней войне (1756–1763 гг.) [иногда
в России она датируется 1755–1762 гг. – Д.С.Л.]. Характеризуя от-
ношение самодержицы к Семилетней войне, он писал, что некото-
рые авторы утверждали, что она стремилась прекратить войну, но
при дворе имелась мощная партия «люто ненавидевших» Пруссию.
Из-за внушения этой партии и венского двора, считал статский со-
ветник, государыня Елизавета так и не решилась прекратить войну.
Таким образом, А.И. Вейдемейер оценивал елизаветинскую
эпоху, как славное время, в которое было много великих дел. «При
ней, в 1755 году, учрежден Московский Университет с двумя Гим-
назиями; потом последовало приказание об учреждении в других
городах Гимназий и Школ. При ней положено основание Акаде-
мии художеств. Морское Училище, учрежденное Петром Великим,
Ею распространено и названо Морским Кадетским Корпусом»12
–
1
1
1
2
Вейдемейер А.И. Царствование Елизаветы Петровны. Ч. 2. СПб., 1834. С. 116.
Вейдемейер А.И. Царствование Елизаветы Петровны. Ч. 2. С. 117.
–
19 —

писал историк. Многое из того, что до него черными красками опи-
сывал М.М. Щербатов Вейдемейер отвергал, недостатком Елизаветы
Петровны он признавал лишь страсть к роскоши. Впрочем, оценки
у него появляются только в конце книги, в основном, придворный
историограф лишь излагал фактологический материал. Советская
историческая наука считала А.И. Вейдемейера представителем дво-
рянской историографии.
Объективность научного подхода предполагает всесторон-
ний охват исследуемой темы, поэтому необходимо учитывать все
выдвинутые точки зрения по данному историческому периоду.
Обратимся к трудам выдающегося отечественного историка
Сергея Михайловича Соловьева, посвященным эпохе царствова-
ния самодержицы Елизаветы I. Историк-государственник, вслед
за А.И. Вейдемейером, считал правление государыни Елизаветы
благом для Российской Империи. С.М. Соловьев (1820–1879 гг.)
привлек к своим исследованиям большое количество архивных до-
кументов, посвященных внешней политике, работе Сената и дру-
гих правительственных учреждений, записок и воспоминаний тех
людей, которые хорошо относились к Елизавете Петровне. Именно
широкое использование архивных материалов являлось главной
особенностью источниковедческой базы «Истории России с древ-
нейших времен», в том числе разделов, посвященных елизаве-
тинской эпохе. Кроме архивных материалов, автор самобытной
концепции русской истории использовал множество других источ-
ников. Научное исследование С.М. Соловьева является одним из
крупнейших фундаментальных трудов по русской истории, в том
числе главы, посвященные Елизавете Романовой и ее царствова-
нию. Этот труд очень важен и нужен для исторической науки, он
являлся прочным документальным фундаментом для создания
других исследований по истории времен Всероссийской самодер-
жицы Елизаветы. «Создавая свои труды, Соловьев впервые ввел
в русскую историческую науку такое множество ценнейших источ-
ников самых различных видов, извлеченных преимущественно из
архивов, что в этом отношении он превзошел всех русских исто-
риков. Он основывался на передовых для своего времени методах
изучения источников. Соловьев ввел в науку необозримую мас-
су новых исторических фактов. Его труды, поэтому приобретали
–
20 —
богатое фактическое обоснование, доказательность содержавших-
ся в них выводов и обобщений»13.
Знаменитый русский историк выделил елизаветинскую эпоху,
как самостоятельную, а не как очередной период большой эпохи
дворцовых переворотов. Методом С.М. Соловьева был анализ до-
стоверности документов и их происхождения. Он пытался ответить
на вопрос, чем руководствовался автор при написании источника,
в каких отношениях автор был с человеком, о котором писал [читай
о Елизавете], а также чем руководствовался при написании текста.
Соловьев был одним из тех, кто стремился представить царствова-
ние русской Елизаветы, как великую эпоху, заложившую основу бу-
дущего развития страны. Он «полюбил» это время и считал успехи
России в данном историческом периоде результатом деятельности
дочери Петра I и ее соратников. Русский ученый также старался
развеять многие негативные оценки, даваемые Елизавете ее совре-
менниками, часто, по его мнению, настроенными к императрице
предвзято. Историк-позитивист стремился выявить причину нега-
тивных оценок современниками Елизавете Романовой, критично
относился к их воспоминаниям и писал о самодержице и эпохе ее
царствования с особой теплотой. Хотя его оценки были более кри-
тичны, чем у А.И. Вейдемейера, все же он славил российскую само-
держицу Елизавету, ее дела и ее эпоху. Тщательно изучивший собы-
тия 40–50-х годов XVIII века, С.М. Соловьев считал покровительство
русским людям, образованию, взвешенность в принятии реше-
ний – очень положительными качествами самодержицы Елизаве-
ты, ее медлительность объяснял стремлением все взвесить, чтобы
принять верное решение. Он отмечал, что Елизавета Петрова дочь
умела привлечь талантливых помощников, миловала всех, кто был
приговорен к смертной казни, поддерживала науку и образование,
покровительствовала талантам. В эпоху царствования Елизаве-
ты, писал С.М. Соловьев: «Россия пришла в себя. На высших местах
управления снова явились русские люди, и когда на место второ-
степенное назначали иностранца, то Елисавета спрашивала: – Раз-
ве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда
нет способного русского. Народная деятельность распеленывается
уничтожением внутренних таможен; банки являются на помощь
1
3
Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М.: Наука, 1980. С. 172.
–
21 —

землевладельцу и купцу; на востоке начинается сильная разработка
рудных богатств; торговля со Среднею Азиею принимает обширные
размеры; южные степи получают население из-за границы, – на-
селение, однородное с главным населением, поэтому легко с ним
сливающееся, а не чуждое, которое не переваривается в народном
теле; учреждается генеральное межевание; вопрос о монастырском
землевладении приготовлен к решению в тесной связи с благотво-
рительными учреждениями; народ, пришедший в себя, начинает
говорить от себя и про себя, и является литература, является язык,
достойный говорящего о себе народа, являются писатели, которые
остаются жить в памяти и мысли потомства, является народный те-
атр, журнал, в старой Москве основывается университет»14.
Иными словами, среди внутренних распоряжений всероссийской
самодержавицы историк-государственник славил покровительство
наукам, основание университета, гимназий, финансовые реформы,
снижение подушной подати, отмену внутренних таможен, учрежде-
ние банков и т.д. Подробно исследовавший явления российской жиз-
ни в елизаветинскую эпоху, известный русский историк отмечал, что
человек, «гибнущий прежде» при исполнении смертной казни, стано-
вился «полезным работником» в стране, которая нуждалась в рабо-
чей силе. Для «будущего времени» подготавливалось поколение, вос-
питанное «в правилах», отличавшихся от правил, господствовавших
в «два предыдущие царствования», воспитывалась целая плеяда де-
ятелей, которые «сделали знаменитым» царствование Екатерины II.
Если говорить о значении царствования самодержицы Елизаве-
ты, то по утверждению С.М. Соловьева, не следовало забывать о ее
характере. «Веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни в ран-
ней молодости, Елисавета должна была пройти через тяжкую школу
испытаний и прошла ее с пользою. Крайняя осторожность, сдержан-
ность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга
людьми, не толкая их, – эти качества, приобретенные Елисаветою
в царствование Анны, когда безопасность и свобода ее постоянно
висели на волоске, эти качества, Елисавета принесла и на престол, не
потеряв добродушия, снисходительности, так называемых патриар-
хальных привычек, любви к искренности, простоте отношений»15.
1
1
4
5
Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Кн. ХII. Т. 23-24.
М.: Мысль, 1964. С. 638-639.
Там же. С. 639.
–
22 —

«
Медленность», считал историк, являлась главным обвинительным
пунктом против Елизаветы Романовой. Он писал: «Здесь главными
источниками служили, во-первых, анекдоты, постоянно искажавши-
еся при переходе из уст в уста и дававшие неправильное представ-
ление о лице и действии по отрывочности, односторонности, какой
бы стороны не касались, хорошей или дурной; во-вторых, известия
иностранцев, которые читались с жадностью именно за отсутстви-
ем своих, и особенно донесения послов»16. С.М. Соловьев утверждал,
что эти «известия» действительно были очень важным источником,
можно было найти в них «чрезвычайно» интересные сведения, под-
робности, но ко всем этим сообщениям и подробностям нужно было
относиться очень осторожно. Он подчеркивал, что посол «возносил
хвалу» государыне, которая ему «поддается», «нарушая» интересы
России, но как только она не соглашалась с его мнением, посол, «не
помня прежнего», начинал «бранить» ее. Надо отметить, подчер-
кивал выдающийся мыслитель, что медлительность самодержицы
Елизаветы, вызванная осторожностью и долгим обдумыванием
проблемы, раздражала иностранных послов, которым нужно было
решить «дело» как можно быстрее. С раздражением они сообща-
ли «своим дворам», что «медленность» Елизаветы «происходила»
из-за ее беспечности, страсти заниматься пустяками, важные дела
при этом «не двигались». Например, английский дипломат Чарльз
Вильямс в 1755 г. долго добивался от российской Елизаветы I под-
писания торгового договора, а причину задержки видел в нереши-
тельности императрицы. Однако, Соловьев считал, что причиной
этого была природная осторожность дочери Петра I и ее стремле-
ние принимать только как следует взвешенные решения. Знамени-
тый историк считал, что медлительность самодержицы Елизаветы
была вызвана не только возможной ленью, но и трудностью при-
нятия решений в делах, при различных мнениях ее соратников, при
спокойном, ровном отношении к людям, высказывавшим противо-
положные «суждения». Он писал: «При этом, разумеется, большую
службу служила ей осторожность, заставлявшая ее не вдруг решать
дела по внушению того или другого лица, но выслушивать и других,
соображать их мнения, думать и долго думать»17.
1
1
6
7
Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Кн. ХII. Т. 23-24. С. 640.
Там же. С. 639.
–
23 —

В своем исследовании русский ученый много внимания уделял
внешней политике эпохи Всероссийской самодержицы Елизаветы.
Он считал, что ее целью было поддержание равновесия в Европе
и защита традиционных интересов России в Польше и Финляндии,
которым угрожала усиливавшаяся Пруссия. В этом же убеждал са-
модержицу канцлер А.П. Бестужев-Рюмин, который, по мнению
С.М. Соловьева, являлся талантливым дипломатом и, несмотря на
многие недостатки, был одним из самых способных соратников им-
ператрицы. Историк хвалил государыню Елизавету за способность
выбирать и сохранять талантливых соратников, даже, несмотря
на враждебные отношения, которые существовали между ними,
например между Я.П. Шаховским и П.И. Шуваловым. Он писал: «На-
следовав от отца, уменье выбирать и сохранять способных людей,
она призвала к деятельности новое поколение русских людей, зна-
менитых при ней и после нее, и умела примирять их деятельность,
держать в приближении Петра Шувалова и в то же время, возвышать
Шаховского».18 Соловьев считал, что в начале правления российской
Елизаветы I самыми «даровитыми» ее помощниками были братья
Бестужевы и генерал-прокурор князь Н.Ю. Трубецкой. Одними из
самых приближенных к Елизавете лиц, помимо генерал-прокурора
сената Никиты Трубецкого, главы Синода Я.П. Шаховского, Бестуже-
вых и М.И. Воронцова, историк называл, конечно же, А.Г. Разумов-
ского и братьев Шуваловых. В 1743 году «Назначение Алексея Пе-
тровича Бестужева вице-канцером показывало ясно, что в нем хотят
видеть преемника Остерману по делам внешним; звание генерал-
прокурора при восстановлении Сената в прежнем его правитель-
ствующем значении давало Трубецкому самое широкое влияние по
делам внутренним. По-видимому, можно было бы разделиться, но
люди не любят дележа»19. А.П. Бестужев-Рюмин и Н.Ю. Трубецкой,
по утверждению известного историка, постоянно конфликтовали
между собой, втягивая в свое противостояние других приближен-
ных самодержицы. Н.Ю. Трубецкой в противостоянии за власть пы-
тался опираться на канцлера А.М. Черкасского, который, по мнению
Соловьева, хотел заправлять внешними делами. Из знаменитых де-
1
1
8
9
Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Кн. ХII. Т. 23-24.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. ХІ, Т. 21-22. М.: Из-
дательство социально-экономической литературы, 1963. С. 165.
–
24 —

ятелей елизаветинской эпохи отечественный ученый особенно вы-