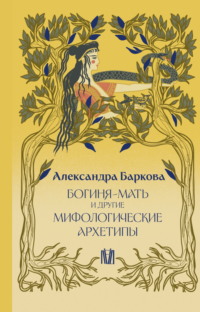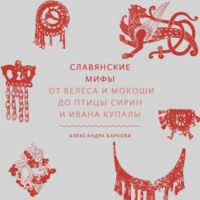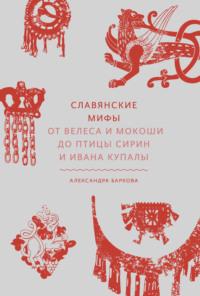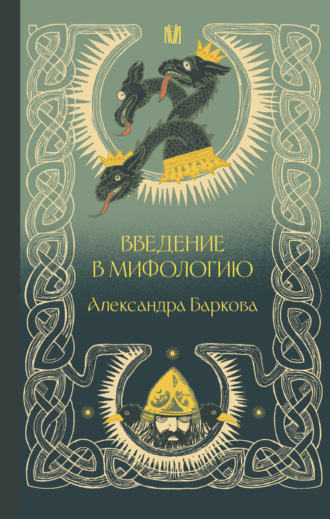
Полная версия
Введение в мифологию
Я еще раз подчеркну, что в Древнем царстве все определялось только формой погребения: что тебе дали – то тебя и ждет. Любопытно, что в Новом царстве будут представления иные, уже этические. И появляется сказка о том, как на глазах у старика и его мудрого сына хоронят богача и бедняка. Старик говорит, что после смерти хотел бы загробную участь богача. А сын ему отвечает, что не надо хотеть судьбы этого богача – надо хотеть судьбы бедняка, потому что богач был неправедным, а бедняк был праведным, и после смерти богач будет на суде осужден, бедняк же будет оправдан, и все, чем снабдили в мир смерти богача, достанется бедняку. Такая идея загробной справедливости очень поздняя.
Еще я хочу обратить ваше внимание вот на что. Говоря о культуре Древнего Египта, я ни разу не употребила термин «культ мертвых». И этому есть серьезное основание. Культ мертвых подразумевает особый способ взаимодействия между живыми и умершими. Живые совершают в честь умерших обряды. А умершие, в свою очередь, заботятся о живых: обеспечивают их богатым урожаем. Существует представление о том, что потусторонний мир – это мир изобилия. И оттуда приходят в мир живых потомкам от пращуров некие блага. Эта идея «обмена» между живыми и мертвыми присутствует в огромном количестве культур. Она была у славян, например. Но ее не было в Египте. Потому что египтянин был обязан заботиться о мертвых всегда. И изначально ко всем гробницам приносились еда, питье и прочее необходимое. Все это высыхало, изжаривалось на солнце. И в какой-то момент кормить такое количество умерших фараонов и знатных людей для экономики Египта стало слишком накладно. Тогда возникла идея экономически более здравая. Все эти бесконечные символические приношения стали делать в виде муляжей, в основном из глины. Спустя несколько веков и это стало сложно. И тогда знатных умерших стали кормить текстами. Блага, которые им даруются, стали перечисляться. Экономика вздохнула. А умершие стали питаться гораздо лучше, потому что перечни даров стали гигантскими и неописуемыми.
Сет: от помощника к врагуТрансформация образа Сета на протяжении египетской культуры – это просто эталонный пример того, как патрон инициации превращается во врага. Как мы уже говорили, изначально Сет – божество амбивалентное: он убийца Осириса, но благодаря этому Осирис становится царем мертвых, он защитник Ра в еженощном бою с Апопом. До определенного периода Сет воспринимался и как защитник фараона, поэтому нас не должно удивлять, что некоторые фараоны носили имя в честь него. И чем дальше, тем негативнее образ Сета, в итоге уже его самого отождествляют с Апопом, и из убийцы Змея он становится сам тем змеем (точнее, крокодилом), которого Гор поражает копьем. Такого рода изображения нас очень порадуют: сидит на коне Гор, держит в руке копье, у ног его крокодил-Сет, Гор его копьем тычет… да-да-да, Георгий Победоносец отсюда. Но вы понимаете, что это Гор, то есть у него голова сокола. Поэтому когда мы видим в книге по Древнему Египту практически герб Москвы, но всадника с соколиной головой, то испытываем бурю разнообразных эмоций.
Полное описание еженощного боя с Апопом читайте у Матье, а я обращу ваше внимание на некоторые детали. Как вы понимаете, людям свойственно просыпаться с восходом солнца. Умершие – тоже люди, они тоже просыпаются с солнышком – то есть они просыпаются после заката, когда Ра на своей ночной ладье плывет по подземному Нилу. Апоп – классический Змей, властвующий над водами (нас такой поджидает и в Скандинавии, и в родных былинах, и в Индии): он может злоупотреблять своей властью и проглатывать воду, он может негодовать на нарушение границ и пытаться уничтожить героя, который заплывает слишком далеко. Разные Змеи делают то или другое, Апоп делает всё. Он проглатывает воду подземного Нила, отчего ладья Ра ложится на бок. То есть мотив поглощения перенесен с героя (здесь это Ра, Сет и вся огромная команда ладьи) на воду, а бой происходит уже чисто, так сказать, снаружи. И наконец, в числе помогающих Ра – змей Мехен, таким оригинальным образом воплощающий тезис Проппа о гибели змея от змея. Ну и конечно Сет наносит решающий удар, а он, как мы знаем, гад тот еще.
Вот к разговору о том, какой Сет гад, мы и переходим. У нас есть прекрасный текст «Суд Гора с Сетом». Я хочу обратить ваше внимание, что, по сути, в нем сведены механически самые разные версии противостояния Гора и Сета, каждый из которых требует себе сан Осириса: Гор по праву сына, Сет по более древнему праву – праву брата. Они судятся уже восемьдесят лет, им придумывают всё новые испытания или обращаются к мнению очередного уважаемого бога, и каждый раз все аргументы – в пользу Гора, и каждый раз Ра, глава суда, принимает решение… угадайте, в чью пользу. Потому что Сет ему каждую ночь убивает Апопа, всё логично.
Когда будете читать, обратите внимание на образ Исиды. Она амбивалентна, она помогает то Гору, то Сету, причем отдельно прекрасно, как Сет, взывая к ее сестринским чувствам, называет ее мужа – «чужеземцем». Как вы понимаете, это у писца какая-то инерция сработала, потому что муж Исиды – такой же брат, как и Сет. Когда Исида помогает Сету, Гор в ярости отрубает ей голову, так что Исиде приходится ставить себе на плечи камень (вы же понимаете: явиться в собрание богов без головы – это неприлично, а с камнем вместо головы – вполне допустимо для богини). Но если без шуток, весь этот эпизод свидетельствует, насколько сильны у Исиды черты Богини-Матери: амбивалентность, враждебность к сыну и наконец – безликость. Это очень-очень мощная архаика. И еще я хочу обратить ваше внимание на такой любопытный эпизод в этом сказании, как «Дело победы», когда Гор и Сет последовательно пытаются друг друга оплодотворить. Причем у Сета ничего не получается, а Гор, благодаря помощи и хитрости Исиды, успешно оплодотворяет Сета – и тот рождает золотой диск. Причем рождает из макушки. Почему на этот миф я особо обращаю ваше внимание? Не из-за его фривольности. Я хочу подчеркнуть, что для языческого божества нарушение человеческих табу – это норма. Это показатель божественности, это свидетельство его божественной силы. И тот факт, что Сет оказывается оплодотворенным Гором (Гор ему дал проглотить на траве свое семя) и в итоге от своего противника рождает, – это не насмешка над Сетом, а именно изначально проявление его сверхсилы. И вообще, для богов, связанных с преисподней, с миром смерти, это вполне характерный образ. У нас не очень много богов рождавших. Но, кстати, в Греции, к которой я хочу перекинуть мостик, это будет бог, связанный не с преисподней, а наоборот: Зевс, который, как мы знаем, рождал, да еще и дважды (Афину рождает из головы и Диониса – из бедра). И как раз по поводу Афины: дело в том, что перед нами миф, который встречается на разных берегах Средиземного моря и является общим для Средиземноморья в целом. Это миф о том, что бог-громовержец (а Сет – громовержец, он связан с пустыней: грозы в Египте – в пустыне) способен родить из головы.
Реформы ЭхнатонаА сейчас мы очень кратко коснемся того единственного случая, когда в Египте был нарушен священный принцип не отменять древних религиозных представлений, чтобы продвигать новые. Единственный раз в Египте была совершена попытка решительного религиозного переворота. Я, естественно, имею в виду реформу фараона Эхнатона. Недавно мне попался на глаза фильм «Нефертити». Фильм достаточно слабый, там очень забавно было, как якобы отец Эхнатона разъярен на сына за то, что тот пытается идти против всех вековых установлений. Это неправда. В середине второго тысячелетия до нашей эры, когда, собственно, было дело, жрецы перешли все границы: присваивали все права не только на общение с богами, но фактически и на победы. Фараон побеждает, потому что за него бог Амон (фиванский бог, мыслился незримым, что в значительной степени облегчало превращение его в верховного бога). Сам фараон уже не может ничего. Все ему дарует только Амон. Эта идея фараонов чрезвычайно угнетала. И они потихонечку начали против этого бунтовать. В частности, как раз отец Эхнатона, Аменхотеп III, серьезно начал противостоять жрецам и отстаивать свое право на победы. Сын шел по отцовским стопам. Но если отец не выходил за рамки общеегипетских приличий, то сын его Аменхотеп IV (имя «Аменхотеп» означает «Амон доволен») решился на беспрецедентные меры. Я замечу, что и поражение реформ Аменхотепа IV, который войдет в историю под именем Эхнатона, заключалось в том, что египетская культура в принципе не могла воспринять столь резкий поворот. Вернее, культура, может быть, и могла. В культуре, именно в истории культуры Египта, реформы Аменхотепа удержались. А в религии это не представлялось возможным. Своим богом фараон избирает бога Атона – бога солнечного диска. Этот бог не был им придуман, в Египте он был очень хорошо известен. Дело в том, что любая языческая культура разделяет жестко два понятия: бог света и бог солнца. При этом бог света – один из ведущих богов. А бог солнца занимает периферийное положение. Соответственно, богом света в Египте был Ра. И мы прекрасно знаем, что Ра изображался в обличье человека с головой сокола, у которого на макушке находится солнечный диск. Вот на макушке у Ра находится бог Атон – бог солнечного диска.
Итак, будущий Эхнатон избирает того единственного бога, которого все видят ежедневно. И берет себе имя «Угодный Атону», под которым и входит в историю. Приказывает строить столицу на совершенно новом месте. Замечу, что после смерти Эхнатона, когда все его реформы рухнули, его столица была сметена с лица земли, и гораздо позже на этом месте возникла арабская деревушка Амарна. И весь стиль эпохи Эхнатона по имени этой деревушки назовется амарнским, хотя это название к Эхнатону никакого отношения не имеет. Его столица называлась Ахетатон – «Небосклон Атона».
Представьте себе любую египетскую статую, изображающую фараона. Вы представляете себе обобщенное лицо, абсолютно лишенное индивидуальных черт. Между тем для египтян эти статуи были портретными, но, естественно, их портретность была более чем обобщенная. Тем не менее это воплощение традиции изображать богов с лицом правящего фараона. То есть любое традиционное изображение фараона автоматически оказывается изображением фараона с лицом отвергнутых богов. Что тогда происходит в искусстве Амарны? Эхнатон приказывает изображать себя не так, как раньше. Если раньше индивидуальные черты сглаживались в портретах, то в эпоху Эхнатона, особенно поначалу, они начинают не просто подчеркиваться, они начинают доходить до гротеска. А еще тот факт, что у Эхнатона череп был, мягко говоря, неправильной формы, приводит к тому, что ранние его портреты – это лицо, вытянутое практически вдвое. Ни о каком реализме говорить невозможно. Можно говорить только о невольном гротеске. Перестарались с воспроизведением индивидуальных черт. Потом научатся. Естественно, для этого нужны были принципиально другие мастера. Те, кто никогда раньше в религиозном искусстве не работал. Те, у кого не была набита рука. Те, кто был способен создавать с нуля, практически на пустом месте. Как и на пустом месте возводилась столица Эхнатона, город Ахетатон. В этом смысле эпоху Эхнатона можно сравнить с эпохой Петра I. Когда огромное количество людей из простонародья вдруг стремительно выдвигается вперед, в обход знати, в обход всех, и оказывается на высоких государственных должностях, потому что они способны выполнить заказ этого царя-психа, если ненаучно выразиться.
Одновременно необходимо писать священные гимны Атону. Есть многовековая традиция египетской религиозной литературы. Есть устоявшийся литературный язык. Естественно, со всем этим Эхнатон решительно порывает. В итоге гимны пишутся фактически разговорным языком. Представьте себе сленг, на котором мы говорим в Интернете (может быть, не лично вы, но, по крайней мере, на нем говорит современное интернет-сообщество): начиная с распространенного «крутой» и доходя до небезызвестного «аффтар жжот». Представьте, что таким языком вы должны написать священный гимн. Если вы таким языком в Интернете разговариваете, то написать про офигительного чувака Атона не составит особого труда. Вот что такое литература эпохи Эхнатона. (А если вам подобное не нравится, то вы отлично поймете причину краха его реформ.)
Но нас все-таки интересует его религиозная реформа. С религией у него получилась забавная вещь. Где у нас помещалось царство мертвых? Разумеется, под землей. И традиционно все представлялось так: днем бог Ра идет по небесному Нилу, потом переходит с дневной барки на ночную, спускается в преисподнюю и уже движется по подземному Нилу, и тогда, логично, в преисподней наступает день, мертвые просыпаются, приветствуют Ра, и всё очень здорово. Но теперь Осириса отменили в числе всех прочих богов, Ра отменили тем более. Куда деваться мертвым? Мертвые привыкли просыпаться при появлении солнца. По техническим причинам возникло представление о том, что мертвые просыпаются не вечером – они просыпаются теперь утром. И вслед за Атоном (других богов не осталось) следуют в Ахетатон, находясь фактически среди живых и славя Атона вместе со всеми. Такая вот картинка: мертвые среди живых. Не скажу, что она вызывает бурный восторг, но ничего другого Эхнатон своим подданным не оставлял.
В изобразительном искусстве эпоха Эхнатона дала в итоге очень интересные вещи. У Эхнатона не оставалось выхода, кроме как требовать изображения личных чувств. Вы наверняка знаете изображение его племянника, который при рождении получил имя Тутанхатон. Позже – атона, логично, заменили – амоном. Мальчик вошел в историю под именем Тутанхамона. Я имею в виду изображение, где юноша-фараон сидит на троне, а его юная супруга натирает ему какой-то мазью плечо. Представьте себе высших государственных деятелей нашей страны, изображенных так запросто. Представьте себе такое официальное изображение. Наша культура на это не способна. Поймите, насколько скандальным был крен в искусстве времен Эхнатона в сторону открытого публичного изображения индивидуальных чувств. Изображения Эхнатона и Нефертити с детьми известно. От Эхнатона остались одни ноги, зато сохранились изображения играющих друг с другом его младших дочерей – совершенно очаровательных девочек. Попытайтесь перенести это на современную культуру, на изображенных таким образом членов семьи любого из первых лиц нашего государства. Получите массу удовольствия. И заодно почувствуете, насколько этот фараон устраивал вещи запредельно скандальные даже с точки зрения нашей культуры, а уж с точки зрения тогдашней – слов нет.
Причины крушения реформ Эхнатона после его смерти вполне очевидны. Во-первых, Египет в целом не мог привыкнуть жить без богов, в которых верили тысячелетиями (археологи даже в развалинах Ахетатона находят статуэтки запрещенных богов!). Да, были деятели культуры, которые смогли найти свое место при дворе Эхнатона, смогли воплощать его госзаказы, возможно, они были искренними адептами новой религии. Но в целом весь Египет, начиная с недобитых жрецов Амона и заканчивая последним крестьянином, это все поддержать не мог. С другой стороны, Эхнатон (он сам проектировал столицу, сам разрабатывал ритуал) не имел возможности глубоко заниматься внешней политикой. А Египет – это страна, которая вела очень серьезные войны, контролировала огромную территорию, вследствие чего имела весьма протяженные границы, которые надо было постоянно оборонять, иначе очередные завоевания будут потеряны. Естественно, что у многочисленных врагов реформы Эхнатона вызывали огромную радость. Царю не до дел на границе. И можно откусить от Египта большие пограничные территории. Безусловно, был ряд критичных поражений, что не добавляло фараону популярности ни у каких слоев населения. И поэтому после смерти Эхнатона все его реформы были немедленно отменены, уничтожены, насколько их возможно было уничтожить. В религиозном плане от них не осталось и следа. А в плане влияния этих реформ на искусство, на литературу выросло новое поколение, создавшее новый литературный язык с сильнейшим влиянием разговорного, но самое главное – с сильнейшим выражением индивидуальных чувств. И вернуться к прежней окаменелости в изображении, к формальности древнего сакрального языка было уже невозможно. В этом смысле реформы Эхнатона не прошли безрезультатно.
Лекция 6. Греческая мифология: возникновение мира
Греческой мифологии не повезло, как никакой другой в мире. Казалось бы, любой интеллигентный человек ее знает. Мы приходим в музей истории искусств, видим изображения греческих богов, будь то Античность, Возрождение, рококо. На первый взгляд, все прекрасно. Греческая мифология входит в комплекс знаний любого образованного человека. Но мы знаем греческую мифологию только через ее отражение в искусстве. А искусство – это произведения авторские. И любой автор, от античного до современного, имеет право на свое, авторское прочтение мифов. Приведу самый обыкновенный пример. Женщину с не очень покладистым характером мы сравниваем с Медеей, потому что нам известно, что Медея убила своих сыновей, когда Ясон вздумал жениться на другой. Откуда мы знаем эту историю про нехорошую Медею? Мы ее знаем из трагедии Еврипида. Но отражал ли Еврипид греческий миф? Нет. Он был великим автором, но человеком с дурным характером и очень не любил женщин, в своих трагедиях изображая их не самым положительным образом. Имел ли он на это право? Полное и законное. Он автор. Что на самом деле представлял из себя миф о Медее? Это весьма трагичная история. Ясон и Медея изгнаны, живут в чужом городе. Жители этого города (Коринфа) убивают детей Медеи из-за ненависти к ней. И вместо той стервы, извиняюсь за выражение, которую мы видим в трагедии Еврипида, в собственно греческом мифе мы находим несчастную мать, которая и так-то за любимым отправилась в изгнание, да еще детей потеряла. Это достаточно яркий пример того, как в результате авторской обработки мифа представление о мифологическом персонаже подменяется представлением о литературном герое.
Можно привести и противоположный пример. Когда плохого меняют на хорошего. Старшим современником Еврипида был Эсхил. Человек благородный и верящий в то, что и все остальные люди и даже боги благородны по своей природе. Он берет миф об одном из самых больших хулиганов греческой мифологии, то есть о Прометее, которому очень нравится пакостить богам – у него такое хобби. Иногда от его пакостей людям становится хорошо, иногда не очень хорошо. Эсхил берет этот миф, обрабатывает, создает свою трагедию «Прометей прикованный», где мы видим один из благороднейших образов античной, но отнюдь не мифологии, а литературы. В свое время Маркс им восхитился, в итоге его цитатой на протяжении многих десятилетий мучили бедных советских студентов. Образ благороднейшего Прометея к античной мифологии имеет более чем косвенное отношение. Зато имеет самое прямое отношение к античной литературе.
Большинство из нас знакомится с греческой мифологией по книге Куна. Открою страшную тайну. Николай Александрович Кун никогда в жизни не писал книгу под названием «Легенды и мифы Древней Греции» (или с другими заголовками, под которыми она издается). Он написал совершенно другую книгу. Она называлась «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях». Почему в советское время выкинули римскую часть – тайна сия велика есть. Только в начале девяностых годов замечательный человек Юрий Анатольевич Шичалин – основатель «Греко-латинского кабинета» – издал книгу Куна в полном дореволюционном варианте, за что ему большое спасибо. Но дело не в римском разделе. А в том, что Кун, будучи профессором Московского университета, человеком весьма дотошным и аккуратным в частностях, не подавал свою книгу как сборник мифов Древней Греции. Ни в коем случае не утверждал, что греки в это верили. Греки об этом рассказывали. Более того, если вы возьмете книгу Куна в любом качественном издании, то обнаружите: везде указано, по какому источнику изложен какой миф. Что-то будет изложено по трагикам – по Эсхилу, Софоклу, Еврипиду. Что-то будет изложено, естественно, по Гомеру, по Гесиоду. И огромное количество текстов будет изложено по Овидию.
Кто такой Овидий? Во-первых, кто по национальности? Он не грек – он римлянин. И свою поэму «Метаморфозы» пишет на латыни. Можно ли изучать греческую мифологию по латинскому тексту? Для кого он пишет поэму? Он ее пишет для скучающей римской знати. Фактически «Метаморфозы» – это, скажем так, эпопея-фэнтези. Написано было примерно с той же целью, с какой и сейчас пишут романы в стиле фэнтези, – с целью развлечения взрослой аудитории. Можно ли этот источник воспринимать как сведения по греческой мифологии? Конечно нет. Другой вопрос в том, что то, о чем писал Овидий, оказало большое влияние на культуру. И я не говорю, что это не надо знать. Знать это надо. Но надо очень четко понимать, что это такое: это трансформация греческих мифов в иной культуре и иной религии. И «Метаморфозы» Овидия стоят рядом с «Данаей» Рембрандта.
Итак, перед нами встал вопрос: а по каким источникам мы будем изучать греческую мифологию? Нам нужны не литературные произведения, не авторская произвольная обработка мифов, а живые верования греков. И этих источников на самом деле предостаточно. Это античные мифографы. Вообще говоря, это наш коллега-фольклорист, только не современный, а античный, который, как и положено любому приличному фольклористу, записывает верования без какой-либо обработки, без какой-либо трактовки. Если он видит там противоречия, то фиксирует их, но ни в коем случае не устраняет. У нас их переводил Алексей Федорович Лосев. В девяностые и позже они были изданы, и не раз. Найти можно. Но в качестве первоначального экскурса у нас есть книга, указанная в программе. Это книга Алексея Федоровича Лосева «Античная мифология в историческом развитии». И там мы читаем – в разделе, посвященном Аполлону, – цитату из одного мифографа о вере в четырех Аполлонов. Первый был рожден Афиной, изнасилованной Гефестом, второй для разнообразия был сыном Зевса и Латоны. После таких первого и второго уже не важно, кто там был третий и четвертый – они менее эффектны. А Аполлон как сын изнасилованной девы – достаточно яркий пример того, насколько живая греческая мифология отличалась от ее литературного и прочего художественного воплощения. Я не могу не заметить, что мифы о том, что у Афины были сыновья от разных отцов, в сознании греков прекрасно уживались с ее девственностью, и, кроме того, эти мифы достаточно широко известны и распространены. Другой вопрос, что они не нашли свое отражение в искусстве, а Кун все-таки свою книгу писал для гимназистов и особенно для гимназисток, которым такое неприличие рассказывать не стоило. Поэтому подобные эпизоды в его книгу не вошли. И в массовое сознание образованных людей тоже.
Возникновение мираВопрос проблемы источников, критики источников мы более или менее осветили. На кого же тогда мы будем опираться? У нас есть один достойный автор. Кроме того, что он был поэтом, он был хорошим фольклористом, так что в своей книге излагал мифы с достаточно высокой точностью и относительно малым привнесением авторского начала. Я имею в виду Гесиода и его книгу «Теогония» («О происхождении богов»). С Гесиода мы и начнем.
Согласно Гесиоду, вначале был Хаос. Как говорил, правда по другому поводу, Фауст: «С первых слов загадка». Дело в том, что если вы возьмете энциклопедию «Мифы народов мира», то обнаружите там не одну статью «Хаос», а две. «Хаос античный» и «хаос первобытный». Что такое первобытный хаос, мы выясняли на первой лекции. Здесь все просто, понятно и в комментариях не нуждается. Что такое «хаос античный»? На досуге все-таки советую «Мифы народов мира» взять. А пока достаточно упомянуть, что для греков Хаос – это мир в его непроявленном состоянии. В таком случае античное понятие Хаоса очень-очень близко, например, буддийскому понятию нирваны. Как мир в непроявленном состоянии, как мир, не имеющий границ, отделяющих одно от другого. Это же, если продолжать восточные параллели, близко даосскому понятию Небытия. Аналогичные представления о мире «до бытия» есть в индийской культуре, в китайской, и они очень хорошо и широко представлены.
Кто и что возникает из Хаоса? Во-первых, возникают Гея и Тартар. Что такое Гея? Банальный ответ: Гея – богиня земли. Богиня или не богиня? Будем разбираться. Бог, в отличие от не-бога, имеет храмы, жрецов, культ. Является ли Гея богиней земли в соответствии с этим утверждением? Нет. Гея – это и есть сама земля. В школе нам это объясняли в связи с геометрией, геологией, географией. Храмов у Геи нет[3]. Изображений почти нет (одно есть – о нем разговор отдельный). Культа нет. Гея не богиня земли. Богиня земли у греков – Деметра, богиня, властвующая над землей. Гея – сама земля. Где есть изображение Геи? Это «Пергамский алтарь» эпохи эллинизма. В истории искусств эллинизм – это период, когда были созданы прекраснейшие произведения, в частности на мотивы античной мифологии: Венера Милосская, Ника Самофракийская и много другого, вам известного. Что такое эллинизм с точки зрения мифологии? С точки зрения изучения мифологии «эллинизм» – слово ругательное. Почему? Где развивается это искусство? Есть искусство Эллады (Греции). Есть искусство других территорий, то есть искусство по греческим мотивам, но искусство – негреческое. Об этом у нас уже шла речь: если искусство развивается за пределами страны, что там остается от оригинальных живых мифов? Остается довольно-таки мало. И для нас искусство эллинизма – это искусство по греческим мотивам. Не более того. Если в собственно греческом искусстве Гею никто не изображал, потому что она сама земля и есть, то в искусстве эллинизма с этим значительно проще. На Пергамском алтаре огромный фриз – битва олимпийцев с гигантами, и там единственное изображение Геи. Причем поскольку все-таки Гея не богиня, а сама земля, то и тут она отнюдь не в полный рост – она высовывается из-за нижнего края фриза, видны только голова, плечи и одна рука. Но изображения Геи собственно в греческом искусстве нет.