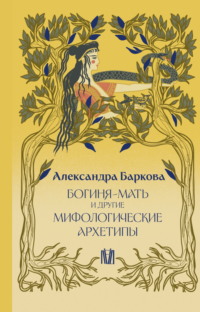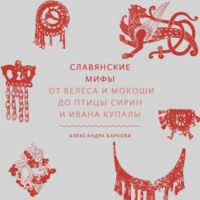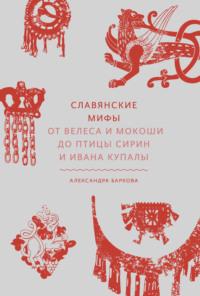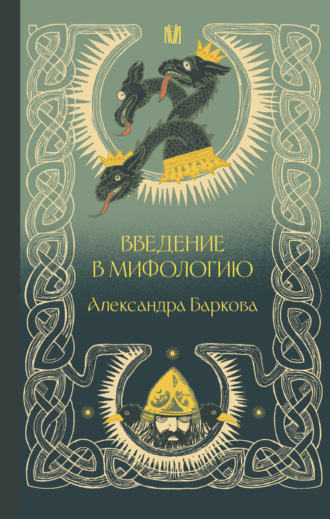
Полная версия
Введение в мифологию
Вместе с Геей возникает Тартар.
Что такое Тартар? Тартар – это бездна, куда заточают титанов, а прежде еще их старших братьев: Сторуких и первых трех Циклопов. Это бездна, которая находится глубоко под Геей. Соответственно, пара Гея и Тартар дают замечательный образ двух, выражаясь философским языком, антиномий – двух противоположностей бытия. Гея – это жизнь. Тартар – абсолютное отсутствие бытия, даже не смерть, еще хуже. При этом Гея – плоскость, Тартар – провал. Причем провал, находящийся на очень интересном расстоянии от Геи. Гесиод в своей поэме пишет о расположении Тартара чрезвычайно любопытные вещи. Тартар – это не просто бездна. Это бездна, находящаяся от Геи на следующем расстоянии. Гесиод сообщает, что если взять медную наковальню и метнуть ее с поверхности Геи вниз, то она долетит до Тартара за девять дней и ночей. Причем если с неба взять медную наковальню и метнуть ее вниз, то она за те же самые девять дней и ночей долетит от неба до земли. До Тартара такая наковальня долетела бы, если б смогла. Но долететь она не может. Почему? Потому что между Геей и Тартаром бушуют вихри. Они бы стали кидать эту наковальню туда-сюда, так что редкая наковальня долетит до Тартара…
Итак, первыми возникают антиномии: плоскость и провал, бытие и небытие, Гея и Тартар. Затем возникает следующая антиномия: свет и тьма. В качестве света – Эрос как изначальная стихия любви. В качестве тьмы – Эреб (мрак), Нюкта (ночь) и ряд не особо приятных мифологических понятий. Я замечу, что наш язык прекрасно сохраняет представление об огненной природе любви. Любовь в сердце «зажглась», «разгорелась», «сожгла», а потом «угасла». То есть любовь – это огонь. А красота – это свет. Красота «ослепительна». И именно поэтому джентльмены предпочитают блондинок. Женщина с белокурыми, золотистыми волосами считается по умолчанию красивой. А о волосах как о вместилище женской природы мы говорили в самом начале. О «сияющей красоте» (то есть как о свете) я упоминаю потому, что чуть позже этот момент нам понадобится в связи с Афродитой. Итак, творения, возникновения мира как волевого акта, заметьте, нет. Возникновение мира по греческим мифам – это возникновение суши и затем возникновение света. Далее, по Гесиоду, возникает Понт, то есть море. Море относится к миру смерти, это убийственные бури и соленая вода, которую нельзя пить. Позже появится Посейдон как владыка моря, но ни в коем случае самим морем не являющийся.
Дальше начинается достаточно архаическая сюжетика. Гея имеет черты Богини-Матери, то есть богини, воплощающей в себе одновременно жизнь и смерть. С понятием Богини-Матери нам придется сталкиваться неоднократно, и я хочу заметить, что эзотерики о ней говорят очень много и ей приписывается очень много разных черт. Но Богиня-Мать – это мифологическая универсалия. Она отличается от других богинь не могуществом, не властью над судьбой, не чем-нибудь еще. Мы можем говорить, что такая-то героиня, такая-то богиня имеет черты Богини-Матери, в одном-единственном случае: если она воплощает в себе одновременно силы жизни и смерти. Если при этом богиня мыслится как прародительница всего живого, тогда перед нами Богиня-Мать как таковая. Замечу, что в чистом виде образ Богини-Матери нам встретится позже в Индии. В Греции мы можем только говорить о персонажах, которые имеют черты Богини-Матери, но не более того. Гея – одна из них. Богиня-Мать не имеет равновеликого себе супруга. Эту проблему можно решать двояко. Она может все порождать абсолютно сама, без супруга. И она может породить сына и его сделать своим мужем, но все равно по силе, по могуществу он будет ей уступать. В Греции мы имеем второй вариант мифа. Гея порождает Урана. Небо или бог неба? Само слово «уран» переводится как «небо», культа он не имеет – это ни в коей мере не бог неба. Уран – не бог, а стихия, точно так же как и Гея. Гея порождает Урана, берет его в мужья. Дальше начинается сюжетная часть «Теогонии». У них рождаются дети. И первыми появляются милые персонажи – гекатонхейры («сторукие»). Это великаны, у которых пятьдесят голов и сто рук. И едва они рождаются, как нехороший Уран заточает их в Тартар. Гекатонхейры представляют собой слепую силу, которой чужды какие бы то ни было законы. Сила эта настолько мощна, что является разрушением в чистом виде. Дальнейшая судьба гекатонхейров весьма своеобразна. Они заточены Ураном в Тартар. Зевс, сражаясь за власть, их освобождает. Они начинают все уничтожать. В частности, уничтожать титанов. И после победы – титанов ввергают в Тартар и гекатонхейров отправляют туда же, но теперь не узниками, а вооруженной охраной. Теперь гекатонхейры сторожат титанов в Тартаре, но, что характерно, эту слепую, безликую, неуправляемую силу и Уран, и Зевс держат только там, потому что нигде в мире больше нет им места, ибо они сметут все из-за своей природы.
Далее Уран и Гея порождают трех циклопов, мастеров, которых Уран также ввергает в Тартар, а Зевс потом освобождает, и они выковывают ему гром и молнию. Затем начинают рождаться титаны. Титанов много. Весь список нам не понадобится. Интересующихся вновь отсылаю к Гесиоду. Нас будут интересовать некоторые из них.
Первый и старейший из титанов – Океан. У него пятьдесят дочерей. Все они реки. Старшая из них – Стикс. Река подземного мира, река, текущая в Аиде. Водами Стикс клянутся боги. И что любопытно: Гесиод жил в VII веке до н. э., вроде бы глубокая древность, но тем не менее греки были тогда настолько цивилизованны, что допускали мысль о том, что боги могут нарушать даже клятву водами Стикс. При чем тут цивилизованность? Дело в том, что дикарь в отличие от цивилизованного человека не умеет врать. Для дикаря слово священно. Цивилизованный человек, наоборот, врать умеет. Для него слово не имеет ни магической, ни божественной силы. И у нас часто даже в литературе мелькает выражение, что «для кого-то эта клятва была просто словами», то есть как бы поклялся, а это слово ничего не значит. К сожалению, это признак цивилизации. Может, чему-то следует поучиться у дикарей. Изначально представление о клятве водами Стикс – это констатация нерушимости этой клятвы. Если бог поклянется водами Стикс, то эту клятву он не нарушит никогда. Уже у Гесиода читаем весьма интересное описание: если бог нарушит эту клятву, то он сколько-то времени пролежит как будто бездыханный, потом еще долго не сможет посещать собрания богов (находится в состоянии изгнания) и только потом простится ему нарушение клятвы. Цивилизация зашкаливает. Я хочу обратить ваше внимание на другой момент. Стикс – река, текущая в Аиде. Заметьте, что Аид (мир мертвых людей) принадлежит к уровню Геи. Известные герои – Тесей, Геракл, Орфей – в Аид с поверхности Геи ходили и, что более интересно, возвращались. Аид – все равно часть Геи. Стикс, безусловно, имеет черты той самой реки, которая является границей мира людей и иного мира. И когда мы говорили на первой лекции о том, что и граница, и мировая ось в равной мере воплощают силы закона, то получается представление о Стикс как об абсолютном воплощении закона. Закона не только для людей, но и для богов. Но греки, как видите, цивилизовались настолько, что у них закон не соблюдают не только люди, но и боги.
Образ титана Океана – образ средиземноморской мифологии. О средиземноморской мифологии разговор большой и отдельный. Сейчас можно только бегло упомянуть, что у народов, живущих по разным берегам Средиземного моря, было очень много общих мифов. У меня в рамках спецкурса была даже отдельная лекция, посвященная средиземноморской мифологии, потому что мифы во многих своих сюжетах и образах будут совпадать. Вопрос такой: титан Океан – это вода соленая или пресная, если его дочери – реки? Это вода пресная. Океан – владыка мировых вод. И вообще в средиземноморской мифологии он выступает как один из главных помощников и советчиков человечества. Правда, в греческой мифологии этот образ менее ярок, а вот в Шумере и Вавилоне это один из самых интересных богов.
Дальше по значимости. Титан Япет. О нем мы знаем мало, зато больше нам известно о его сыновьях. У Япета было три сына. Старший – Атлант. Средний – Прометей. Младший – Эпиметей. «Прометей» означает «глядящий вперед». «Эпиметей» – «глядящий назад». И эти два бога предстают типичными культурными героями. Что такое культурный герой? Это весьма популярный в мифологии персонаж. Это герой, который создает те или иные явления природы и культуры. С Эпиметеем и Прометеем в первую очередь связано создание человека. Миф о том, что Прометей наделал некую кучу качеств и, разложив этот «конструктор Лего» на столе, собрался эти качества соединять, творить все живое – не только человека, но и животных. В этот момент появляется Эпиметей, ему очень хочется в этот «конструктор» поиграть. Прометей соглашается. И Эпиметей начинает творить. Одним дает быстроту, другим – сильные клыки, острые когти, третьим – крылья, четвертым – плавники и так далее. Потом, очень довольный своей работой, зовет брата. А Прометей удивляется, почему Эпиметей ничего не дал человеку: ни клыков, ни зубов, ни крыльев. Так человек остается существом слабым, биологически уязвимым.
Согласно Гесиоду, похищение огня (то, что считается главной заслугой Прометея) происходит не от желания Прометея облагодетельствовать человечество, а от желания досадить богам. Прометей похищает огонь, прячет его в сухом стебле тростника. Нашел где спрятать.
Дело в том, что в мифологии, в культуре, в обрядности самых разнообразных народов четко противопоставляются два огня. Огонь физический, служащий для обогрева и освещения. И другой огонь, который света и тепла практически не дает и служит для иных целей. И именно этот огонь, огонь мудрости в частности, похищает Прометей. И этот огонь, поскольку он не связан с жаром, можно спрятать в сухом стебле тростника. Примеры такого негорючего огня: ритуальные свечи. В ритуалах огоньки так или иначе фигурируют и для освещения не служат (поминальные, венчальные и т. д.). В современных храмах обычное электрическое освещение, что не отменяет лампады и свечи. Заметим, что такие свечи в любой религии дают минимум света. В разных культурах священный огонь и огонь утилитарный противопоставлены в большей или меньшей степени четко. В общем, это два совершенно разных типа огня. Поэтому неудивительно, что Прометей этот самый огонь духа спокойно прячет в сухом тростнике и тростник от него не загорается.
С Прометеем связан также принцип разделения жертвенной туши. Когда древний грек приносит жертву Зевсу или другому богу, туша быка делится следующим образом: жир и кости сжигаются, а мясо и шкура достаются жрецу. Шкуру он оставляет в хозяйстве, а мясо сжирает, на то он и жрец. Шутки шутками, а момент очень серьезный и интересный. Потому что слово «жрец» является однокоренным к слову «жрать». И если мы обратимся к древнерусским текстам, то там встречается выражение «жрали бесам», то есть приносили жертвы языческим богам. В любой языческой культуре жертвоприношение воспринимается как совместный пир людей и богов. И жертва – «жратва» не в ругательном смысле, а в символическом. Жертву действительно поглощают, поедают. Это очень здорово возрождается в туристической среде, потому что туристы с завидной регулярностью первый кусок хлеба, первую ложку тушенки отправляют в огонь, в костер. Часто это происходит рефлекторно, а не от каких-то неоязыческих побуждений. Пришли на новое место – надо «хозяев» покормить, и говорить об этом посторонним не принято. Это вопрос сугубо личной веры. Для любого жреца, в том числе и греческого, поедание мяса жертвы совершенно нормальное явление.
Гесиод излагает миф о том, что Прометей разделил бычью тушу: с одной стороны он положил кости, покрытые жиром, с другой стороны он положил мясо, покрытое шкурой. И предложил Зевсу выбрать. Зевс соблазнился на жир, решил, что там мясо, а мяса там не оказалось, и таким образом богам досталась не самая вкусная часть. За всевозможные свои проказы Прометей был отправлен на Кавказ, где, как известно, был прикован к горе, и этот мотив мы уже разбирали в связи с мировой осью. Почему Прометея сослали именно на Кавказ? В кавказской мифологии столько прометеев, сколько народов. У кого характер похуже, у кого еще хуже, но все такие кошмарные, что их рано или поздно свои же заточают, замуровывают в гору, приковывают к скале. Многие кавказские прометеи добывают огонь. Я в свое время даже написала полурассказ-полуэссе «Прометей кавказской национальности»[4]. Кавказские Прометеи – та еще жуть. И в кавказских обычаях, например, существует день, когда кузнецы ударяют молотом по пустой наковальне, символически вбивая глубже гвозди, которыми прикреплена к скале цепь их очередного местного прометея, чтобы не вырвался. Потому что если вырвется, то настанет конец света. Так что в мифе о Прометее, прикованном именно на Кавказе, мы с полным правом можем усматривать влияние кавказской мифологии на древнегреческую. Это мы разобрали Япета и его замечательных детишек.
Младший из титанов – Крон. В эпоху эллинизма, которую я вам уже ругала с мифологической точки зрения, знание греческого языка оставляло желать лучшего. Поэтому слово «Крон» было отождествлено со словом «хронос», то есть «время». И возникли представления о том, что Крон – это чуть ли не бог времени. Во-первых, он вообще не бог, потому что он нигде никогда никакого культа не имел. Во-вторых, эти два слова не родственны. Представление о Кроне как о времени – не греческое, возникшее в эллинистическую эпоху и возникшее от плохого знания греческого языка. Гея, терзаемая из-за того, что ее старшие дети заточены Ураном в Тартаре, молит титанов восстать на отца и отомстить за ввергнутых в Тартар. Крон, эпитет к имени которого можно понимать как «хитроумный», а можно буквально – «с кривым ножом» (его оружие – это серп), на это с радостью соглашается. В какой-то момент он отсекает своему отцу Урану фаллос. Фаллос падает в море. Из него, естественно, течет кровь. Из крови возникает пена. И из этой пены появляется Афродита. Волны приносят ее на остров Кипр. И по месту своего выхода на землю она именуется Кипридой. Естественно, этого мифа, изложенного Гесиодом, в книге Куна нет. Потому что он, повторюсь, писал для гимназистов и гимназисток.
Будем разбираться с этим мифом. Оружие Крона – серп, соответственно, это персонаж, связанный с силами земли. Уран связан с небом. Позже Крона свергнет его сын Зевс, который связан с силами неба и, более того, является божеством грозы. Иными словами, мы имеем преемственность божественной власти: небо – земля – гроза. Это типичный средиземноморский миф. И примеров привести можно очень и очень много. Самый яркий из примеров – миф хеттов. Хетты – это индоевропейский народ, который жил в Малой Азии, на территории современной Турции. У хеттов изначально властвует божество неба, затем его сменяет другое небесное божество. Далее мы имеем миф о том, как земное божество оскопляет бывшего царя, проглатывает мужскую плоть и беременеет своим будущим противником – богом грозы, которого в положенный срок рождает из головы (вспоминаем египетскую мифологию: Сет беременеет от Гора и рождает солнечный диск из головы – и Зевса, который таким же образом рождает Афину). Вот два средиземноморских мифа: о том, как именно рожает бог (из головы) и о смене поколений богов.
Вернемся к Афродите. Почему она родилась на Кипре? На западном берегу Кипра, куда сейчас несложно поехать благодаря турагентствам и проверить мои слова, есть местечко, называющееся Пафос. Там возвышается скала (в Интернете несложно найти фотографии) такой формы, что и смотреть неприлично. Поэтому миф о том, что какому-то божеству отсекли фаллос и он стоит окаменевший, – миф сугубо кипрского происхождения, потому что при виде такой скалы ничего иного просто подумать нельзя. Действительно, там совершенно безумной мощности прибой, пены хватит на рождение трех богинь. И это место является местом своеобразного паломничества. К вопросу о современной мифологии: киприоты – весьма забавный народ, потому что для них утверждения, которые я сейчас перечислю, абсолютно одинаковой степени реальности: «на Кипре родилась Афродита», «кипрский фунт равен двум долларам», «в этом храме находится икона Богородицы, написанная святым Лукой с натуры», «здесь Афродита купалась со своим любовником Адонисом, и поэтому людям здесь купаться нельзя», «большинство машин на Кипре белого цвета». Так киприоты и живут.
Афродита, не имеющая фактически ни отца, ни матери, возникшая из пены и по месту выхода названная Кипридой, безусловно, имеет черты Богини-Матери. И у Гомера, забегая вперед, предстает супругой Ареса и богиней-воительницей. Вообще, предполагают, что этот образ малоазийского происхождения. Миф о рождении Афродиты на Кипре – фактически один из вариантов мифов творения. Афродита, не имея ни отца, ни матери, выходит на землю (появление суши как акт творения), при этом она богиня любви и красоты (любовь – огонь, красота – свет) – все составляющие мифа творения здесь есть.
Лекция 7. Греческие богини и боги
Афродита и АртемидаАрхаический образ Афродиты мы видим в мифе об Адонисе. И этот миф мы сейчас детально разберем, поскольку он очень хорошо показывает одну важную вещь: то, каким образом вообще складываются мифологические сюжеты. У нас есть два сказания, на первый взгляд совершенно разных. С одной стороны, это сказание об Артемиде и Актеоне. С другой стороны, сказание об Афродите и Адонисе. Вспоминаем первый миф. Смертный юноша случайно во время охоты попадает в грот, где отдыхает Артемида. Он ее видит, она, разгневавшись, превращает его в оленя, и его растерзывают собственные собаки. В случае с Афродитой и Адонисом у нас несколько иная ситуация: счастливая любовь богини и смертного юноши. Афродита вместе с ним охотится, но на мелкого зверя, всячески остерегает Адониса от охоты на крупную дичь. Тем не менее он охотится на кабана и в этой схватке гибнет. Афродита в горе. Все живое начинает умирать, поскольку архаическая Афродита – это именно воплощение жизненных сил природы. И затем Зевс, смилостивившись, разрешает часть года Адонису проводить с Афродитой, так объясняется смена времен года. Перед нами часть классического средиземноморского мифа об умирающем-воскресающем боге, которым здесь является смертный возлюбленный богини.
Понятно, что мифы разные. Давайте посмотрим насколько. В обоих случаях действует богиня. И эта богиня занимается охотой. Она не имеет супруга. С другой стороны – смертный юноша, и тоже охотник. В одном случае между героем и героиней любовь. В другом случае (важный момент) тема любви присутствует, но со знаком «минус». Нет героя и его возлюбленной богини, но тот факт, что Актеон видит Артемиду обнаженной, означает наличие мотива любви. Но этот мотив отрицается. Надо очень четко понимать, что возможна реализация того или иного мотива (в данном случае мотива любви между смертным и богиней) как положительная, так и отрицательная. Далее герой превращен в животное и гибнет. Ключом к пониманию этого мифа для нас послужат вавилонские мифы. Там будет богиня любви и войны – Иштар, которая в сказании о Гильгамеше предлагает ему свою любовь, и ей в очень невежливых выражениях отказывают, мотивируя это тем, что она любила такого-то и превратила его в такое животное, любила другого и превратила его в другое животное. Яркий список, кого она любила и в каких животных кого превратила. Получается, что, как мы неоднократно говорили, человек не может войти в иной мир, оставаясь человеком. Понятно, что Адонис и Актеон обычные люди. Речь идет о том, что в мифе о любви богини к смертному этот смертный должен войти в ее мир. Он должен перестать быть человеком. И поскольку в архаике богиня мыслится владычицей диких животных, то человек должен принять зооморфный облик – облик того или иного животного. В этом случае он с точки зрения мира людей умирает. Но при этом остается с ней. Этот средиземноморский миф нам дает в равной степени и миф об Афродите и Адонисе, где мотив любви реализован положительно, и миф об Актеоне и Артемиде, где мотив любви реализован отрицательно. На этом примере мы видим, как из различных мотивов складываются отдельные мифы.
Этот принцип называется «принцип мозаики». Очень важно понимать, что нет никакого «прамифа», исходной формы мифа, к которому восходили бы эти три сказания. Есть набор мифологем. Мифологемы могут реализовываться положительно и отрицательно. И это нам дает множество сюжетов. Наука XIX века занималась поисками изначальных, разрушенных мифов – это ложный, тупиковый путь. Но, к сожалению, с ним до сих пор приходится сталкиваться.
ГермесГермеса мы представляем по знаменитой эллинистической скульптуре: юноша в крылатых сандалиях, вестник богов, мальчик, подросток в лучшем случае. И если его сейчас в современной культуре изображают (например, в известном фильме «Одиссей»), то он именно таким и будет. Мальчик-подросток – это эллинизм. К греческой мифологии имеющий отношение весьма косвенное. С именем Гермеса у нас связаны однокоренные ему понятия – «герменевтика» (наука о толковании текста, особенно священного, библейского), «герметический». Что общего между наукой о толковании текста и герметически закрытым термосом? Что общего между ними и этим самым богом-подростком? Бог-подросток тут явно ни при чем. И если мы зададимся достаточно традиционным вопросом в его школьной форме, богом чего был Гермес, что мы назовем в первую очередь? Бог-хитрец, бог-обманщик. Вестник богов – это достаточно позднее. Бог-покровитель одновременно купцов и разбойников, всех, кто ходит по дорогам. И здесь мы выходим туда, куда надо. В античной Греции по всем дорогам стояли гермы – столбы с изображением головы Гермеса. Гермы представляли Гермеса в виде бородатого мужчины в дорожной шапке. Вот вам и мальчик. Если мы возьмем эпоху эллинизма, то там на перекрестках будет появляться достаточно мрачная богиня Геката со свитой адских гончих. Перекресток – устойчивое место контакта с нечистой силой. И в Греции гермы ставились не только и не столько вдоль дорог, сколько именно на перекрестках. Архаичный Гермес – владыка дорог. Но открытым остается вопрос о герменевтике и герметичности. Есть малоизвестное представление, что Гермес – водитель душ умерших, он отводит их в Аид. Архаичный Гермес – это фактически владыка мира мертвых, но непривычного мира мертвых. Мир мертвых вообще может представать в двух основных формах. Это некая местность под землей – то, что в греческой мифологии мы имеем как Аид. И это динамичный мир мертвых – сонм неупокоенных мертвецов, которые носятся следом за своим предводителем. Понятно, что для человека встреча с такой компанией грозит присоединением к этому самому сонму. Архаический Гермес, владыка дорог, был именно таким божеством. Кстати сказать, упомянутая эллинистическая Геката именно в этой функции заменяет Гермеса, потому что за ней несется точно такая же неупокоенная свита. Тогда становится понятной связь Гермеса со словом «герметический», то есть «закрытый наглухо». Если ты попадешь в свиту к такому богу, то обратно не выбраться. И тогда понятно, при чем тут герменевтика. Мир мертвых в принципе связывается с мудростью. Любопытно, что в современной Греции, стране христианской, никаких герм быть не может, но в сельской местности до сих пор на перекрестках ставятся сооружения наподобие часовенки высотой чуть выше человеческого роста с коническим верхом, венчающимся крестом. Но и по месту установления, и по общему облику, размеру это вполне соответствует гермам. Переносятся символы другой религии на универсальный греческий образ, которому более двух с половиной тысяч лет.
С Гермесом связан миф, известный нам по гомеровскому гимну (Гомер никакого отношения к этим гимнам не имел, они так были названы для придания им дополнительной значимости). Это миф о похищении коров Аполлона. Аполлон, немного забегая вперед, – это в первую очередь бог света в греческой мифологии. Зачем Аполлону коровы? Дело в том, что архаичный Аполлон никакого отношения к красавцу из эллинизма (например, к Аполлону Бельведерскому) не имеет. Архаичный Аполлон – бог весьма жестокий. В индоевропейском мифе коровы – это символ тучи. И не просто тучи, а рассветные, окрашенные солнечными лучами. Итак, рыжие коровы символизируют влагу и свет. И мы знаем индоевропейский миф о том, что демоны преисподней похищают тучи, т. е. дождь и свет. И богу грозы или богу света необходимо эти тучи вернуть. В индийской мифологии это миф Вала, мы будем его проходить, но коснемся уже сейчас. В роли тех самых нехороших демонов преисподней, которые похищают свет и влагу, в данном случае выступает Гермес. Гомеровский гимн – это, конечно, обработка мифа литературная, но значения и символика сохранены достаточно хорошо. Итак, Гермес, едва успев родиться (а родился он у дочери Атланта, так что Прометей ему – родной дядюшка), выбирается из своей колыбели, похищает коров Аполлона, загоняет их в некую пещеру (аналог преисподней), причем задом наперед. Якобы затем, чтобы на камнях не отпечатались их следы. Это совершенно не мешает Аполлону их найти. С другой стороны, если представим камни, то непонятно, какая разница, как загонять коров, – никаких следов все равно не видно. Ясно, что объяснение о коровах, загнанных задом наперед, вторично. И это связано с тем, что автор данного конкретного текста не знает причины и придумал свою. Если мы попытаемся сообразить, в чем тут дело (тем более мы знаем, что пещера – это образ преисподней), то здесь мы сталкиваемся с универсальным представлением о том, что в мире смерти все будет наоборот. С этим связано наше русское выражение «горбатого могила исправит». Изначально это действительно вера в то, что прямое в мире людей станет кривым в мире смерти. Аполлон находит Гермеса и требует вернуть коров. Гермес принужден это сделать. И в тот момент, когда Аполлон выгоняет коров из пещеры, Гермес играет на только что созданной им лире. В греческом тексте это не имеет особого значения. Там, правда, говорится, Аполлон так растрогался игрой Гермеса, что попросил подарить ему лиру. Гермес ему лиру подарил, а Аполлон в благодарность отдал ему всех коров. Непонятно тогда, зачем с такими сложностями надо было их добывать! Вновь мы сталкиваемся с переосмыслением мифа из-за того, что первоначальный смысл забыт. Здесь мы видим отражение мотива «музыка как способ открытия врат потустороннего мира». Где он в греческой мифологии хорошо представлен? Один из самых ярких примеров – история Орфея, который играл так хорошо, что живым прошел в царство мертвых и оттуда живым же вышел. В том, что возникли проблемы с возвращением жены Эвридики, он виноват сам. Для нас прежде всего важен факт, что он не только вошел живым, но и вышел живым из царства мертвых благодаря своей музыке. В гомеровском гимне забыт изначальный смысл того, что с помощью музыки возможно освобождение коров из преисподней. Сам выход их осуществляется именно потому, что Гермес играл на лире.