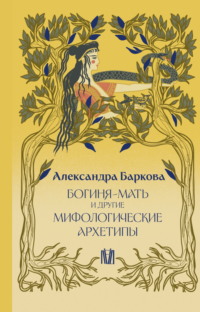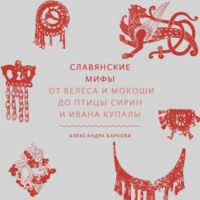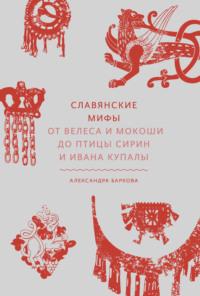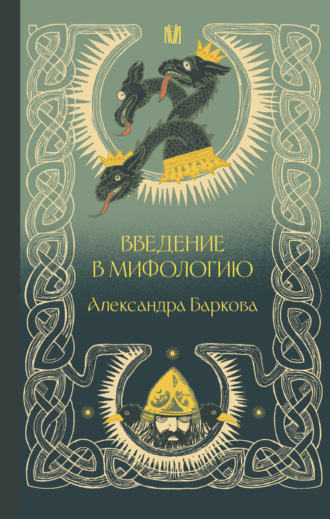
Полная версия
Введение в мифологию
Ваша покорная слуга написала в свое время небольшую, но насыщенную статью, посвященную поединку героя и чудовища. Такой бой я назвала архаическим поединком, потому что он имеет отчетливо выраженные мифологические черты. Если мы берем практически любое яркое эпическое сказание классического эпоса, то мы видим, что или первый, или главный бой в жизни героя строится по очень четко прописанной схеме. На первом этапе герой поражает чудовище или антропоморфного врага (это, например, поединок Ахилла и Гектора, а уж Гектор никаких черт мифического чудища не имеет) с расстояния и этим достигает неполной победы. Что такое неполная победа? Варианты: чудище ранено, чудище не ранено, чудище убило героя, но героя потом воскресят – и другие формы. На втором этапе герой вступает в контактный бой и, как правило, мечом, реже голыми руками убивает своего противника. Наконец, возможен третий, факультативный этап – истребление змеенышей (детенышей) этого самого врага (подчеркну, это именно монстр). Как объяснить структуру этого поединка? Я не буду сейчас цитировать свою статью, но там приводится материал на очень большом количестве примеров. Действительно, в самых разных культурах, весьма далеких друг от друга, мы видим поединок такой структуры. Почему структура боя настолько устойчива? Этому есть два ответа, они нисколько не исключают один другого, просто это рассмотрение проблемы с разных точек зрения. Первое объяснение чисто мифологическое. Дело в том, что когда герой бьется с чудищем на расстоянии, то он, как правило, в чудище стреляет из лука. Действительно, в качестве метательного оружия стрела – наиболее удобное, наиболее распространенное, наиболее подходящее. Но стрела у огромного количества народов уподобляется змее (о стреле говорят «ужалила»). Существуют конкретные сюжеты, в которых стрелы превращаются в змей или наоборот, то есть взаимозаменяемость образов стрелы и змеи чрезвычайно высока. Иными словами, наш герой (подробнее об этом мы будем говорить дальше, разбирая книгу Проппа) имеет змеиные черты. Герой по своему происхождению родич змея. И соответственно, как родич змея, он обладает змеиной природой, он обладает змеиной силой. И он в первом этапе своего боя со змеем проявляет свою змеиную природу, которая воплощается в его оружии. Вновь, забегая немного вперед, к книге Проппа «Исторические корни волшебной сказки», где говорится, что волшебный помощник героя изоморфен волшебному предмету, более того, что и волшебный помощник, и волшебный предмет – это отделенные от героя магические способности. Таким образом, герой, сражаясь с чудищем, стреляя в него из лука, проявляет свою змеиную природу. Общую с врагом. И на этом этапе он не может достигнуть полной победы, потому что он должен победить как человек, не как родственник змея. Я повторю еще раз, формы этой самой неполной победы могут быть весьма разнообразны, даже до временной смерти героя, что вполне естественно для мифологического сказания.
На втором этапе он сражается абсолютно человеческим оружием. Более того, оружием воинским (оружие может быть вообще и не воинское, потому что крестьянин будет сражаться или цепом, или молотом, или вилами, или другими орудиями, а воин в эпосе иногда дерется деревом, колесницей, трупом врага). Меч – это атрибут воинского сословия. Итак, на втором этапе герой использует меч, и здесь уже он убивает своего противника. Он проявляет свою человеческую природу и этим уничтожает противника, который изначально – монстр.
Таково одно из возможных объяснений, почему архаический поединок имеет настолько устойчивую структуру. Но возможно и другое, не противоречащее первому. Если мы берем сюжет волшебной сказки или же сюжеты литературных произведений, которые используют волшебную сказку как клише, то мы обнаруживаем достаточно устойчивую повествовательную структуру. Сначала идет предварительное испытание, которое должно показать, что перед нами действительно герой. Затем идет основное испытание, ради которого сюжет, собственно, и затевается. И наконец, чтобы не обрывать историю слишком рано (интересно послушать еще что-нибудь), происходит третье, дополнительное испытание – идентификации героя, то есть герой должен доказать, что подвиг совершил именно он. Эти три этапа очень четко соответствуют тому, о чем мы с вами говорили, рассуждая об архаическом поединке. Предварительное испытание – бой с расстояния, основное испытание – главный бой и третье, дополнительное испытание, как бы замедление сюжета, – это истребление змеенышей. Таковы два объяснения устойчивости структуры архаического поединка. Любопытно, что в архаическом эпосе такого боя не будет – это сюжет классического эпоса.
Лекция 4. Миф, эпос и сказка
И теперь мы переходим к истории эпоса. Герой архаического эпоса – это разобранный нами во всех подробностях яростный неистовый исполин, существо, наполовину принадлежащее к потустороннему миру, достаточно слабо себе представляющее законы человеческого мира. Такой эпос был распространен у народов, живших племенным строем. К счастью, успели записать большое количество сказаний народов Сибири и Дальнего Востока. И Сибирское отделение Академии наук продолжает издавать эпос Сибири и Дальнего Востока. Эти сказания, конечно, вымирают, но все-таки их успели зафиксировать.
С возникновением государственности меняется эстетический и этический идеал. Избыточная сила перестает считаться достоинством. Этот образ уходит в прошлое. Достоинством становится совершенно другое – соблюдение и поддержание человеческих норм. Соответственно, герой – это уже идеальный человек, совершенный во всем: он и искусный воин, и образованный, и благородный, и так далее. Одновременно и, может быть, стадиально несколько позже развивается образ, восходящий к глубинам шаманского мифа, к образу первопредка – образ трикстера, то есть хитреца, плута. Того, кто будет действовать хитростью. И далеко не всегда это будет приносить ему удачу. С трикстером достаточно часто будет ситуация и в шаманском мифе, и в эпосе, как он перехитрил сам себя. Самый известный образ трикстера в эпосе – это, конечно, Одиссей. Но Одиссей, хотя и известный плут, имеет черты самых разных поколений героев. В первую очередь это будет раннегосударственный герой, потому что хитростью Одиссей действует против неантропоморфных врагов (всем известная история Одиссея и Полифема).
И когда мы рассматриваем конкретные эпические тексты, деление героев на архаических и раннегосударственных, которое я отчасти сейчас озвучила и которое полностью приведено в моей статье «Четыре поколения эпических героев», не срабатывает. В этом нет недостатка, потому что схема на то и схема, чтобы выявлять основные тенденции, а реальная картина, конечно, всегда сложнее и многообразнее. Итак, что мы имеем в реальных эпических традициях? Подавляющее большинство наиболее известных нам героев эпоса нельзя отнести однозначно ни к архаическим, ни к раннегосударственным. Они будут иметь черты того и другого. Опять же, самый яркий из возможных примеров – это Илья Муромец. В некоторых случаях он имеет черты четкой архаики, в других – обозначается его «человечность» – не в смысле «гуманность», а соответствие физическим возможностям человека, когда он будет, например, говорить, что по калачику в день ест, по чарочке выпивает. А о том, что в кабаке он пропивает золотые маковки церквей, об этом сказитель своевременно забывает, если вообще этот сказитель знал данную былину.
«Исторические корни волшебной сказки»Таким образом, мы заканчиваем историю эпоса и переходим к нашей следующей большой теме. Эта тема – книга Владимира Яковлевича Проппа «Исторические корни волшебной сказки». И прежде чем речь пойдет дальше, книга Проппа должна быть прочитана. Я не собираюсь ее вам пересказывать. И то, о чем я буду в дальнейшем говорить, – некоторый комментарий к книге Проппа. Поскольку книга была издана уже более семидесяти лет назад (написана была еще раньше, потому что это его докторская диссертация и она была защищена перед Великой Отечественной войной, издана в 1948 году; естественно, за эти десятилетия наука шагнула вперед), некоторые положения Проппа нуждаются не то чтобы в корректировке, а в некоторых уточнениях.
Сначала несколько слов о самом Владимире Яковлевиче. В молодости он написал книгу, которая до сих пор остается одной из «священных» книг структурализма. Это книга «Морфология сказки». Весьма почитаемая в науке, сначала больше за рубежом, потом и у нас. Но, честно говоря, я эту книгу не люблю. И причин всеобщего безумия в связи с ней не понимаю, что, впрочем, не отменяет всех ее достоинств. В этой книге Владимир Яковлевич подробно описывает структуру волшебной сказки, доказывая, что сказки при всем многообразии имеют структуру универсальную и чрезвычайно жесткую, что им весьма подробно выводится. При желании найти эту книгу несложно, прочтете. Затем он пишет, на мой взгляд, свою лучшую работу – «Исторические корни волшебной сказки», за которую его потом подвергают чрезвычайно жестокой критике. Надо понимать, что в советское время человек с немецкой фамилией (Пропп – фамилия немецкая) мог иметь даже только из-за нее серьезные проблемы.
К сожалению, научные книги обсуждались не только в научных аудиториях, но и в газетах. И когда в газете пишут, что «господин Пропп переносит представление о немецких публичных домах на русские сказки», то это равносильно приговору, и чуть ли не смертному. Понятно, что речь шла, естественно, о мужском доме. Ему удалось избежать лагерей, но в дальнейшем он замаливал грехи. Позже им была написана книга «Русский героический эпос». Я, как человек, вот уже много десятилетий занимающийся эпосом, ее читала, и неоднократно, и, к сожалению, должна сказать, что книга плохая. У него не было выхода: или Колыма, или написать то, что от него хотят. Он избрал второе, и нельзя его за это осуждать. В качестве книги о русских былинах не стоит читать Проппа, хотя читать по этой теме практически нечего. Разве что Бориса Николаевича Путилова, но это отдельный разговор, к которому мы вернемся, когда дойдем до былин. Говорят, что у Проппа есть книга еще хуже: «Русские аграрные праздники». Мне по долгу службы не приходилось ее читать, я ее и не читала – поверила своим научным руководителям. Трагическая судьба. Но стоит заметить, что то, что я вам даю по шаманскому мифу, делается на основе тезисов статьи Владимира Яковлевича «Чукотский миф и гиляцкий эпос», которая указана у вас в программе.
Прежде чем переходить к комментариям к «Историческим корням», надо заметить одну очень важную вещь. В жизни человека есть ситуации перехода. В первую очередь это переход из небытия в бытие, то есть рождение. Затем – из невзрослого состояния во взрослое (то, что связывается со свадьбой). И следующий переход, соответственно, из бытия в небытие – смерть. Все биологические процессы (вспоминаем первую лекцию: противопоставление «своего и чужого») относятся к сфере… «своего» или «чужого»? «Чужого». Человек в них вмешиваться не может. Они идут помимо его воли, они неконтролируемы. Избегать биологических процессов невозможно, остается один-единственный выход: ввести их в сферу «своего». Каким образом это можно сделать? Все биологические процессы дублируются ритуалами. Причем если сам процесс по времени недолог, то он оказывается противоположным образом растянут во времени, и наоборот. Что такое по времени процесс рождения? Это несколько часов схваток. Сколько занимает процесс родов в ритуале? Несколько дней. Если мы берем русскую обрядность, то там будет ряд моментов для будущей матери: предродовые, роды, через несколько дней крестины (как известно, мать на крестинах не должна присутствовать). Здесь очень четко противопоставляется биологическое и ритуальное. Процесс смерти. Сколько он длится физически? Столько, сколько длится агония. Опять-таки несколько часов. Сколько времени человек умирает социально? Три дня – похороны, девять дней – поминки, сорок дней – поминки, и последние обязательные поминки – это год. Традиционно, спустя год после смерти человек переходит в это самое сообщество предков и дальше уже действует как предок. Процесс полового созревания. Сколько длится? Трудно сказать, год или больше. Даже, можно сказать, не один год. В ритуале обратная картина. Это несколько дней. Это обряд инициации.
Традиционно принято думать об инициации в таком ключе: невежественные дикари мучили бедных мальчиков, заводили их в лес, подвергали пыткам; и как хорошо, что цивилизация от этого избавилась. На самом деле все сложнее и деликатнее. Что такое подростковый период? Это время, когда человек впервые всерьез задумывается о природе смерти и испытывает вполне закономерное и, я бы сказала, психически нормальное желание заглянуть по ту сторону смерти. А что там такое? А то всё говорят, говорят… Заглянуть и выглянуть обратно. Это естественно. И традиционное общество на эту потребность дает свой ответ в виде ритуала инициации. Это с одной стороны. С другой стороны, читали, каким пыткам подвергали бедных мальчиков! Можно мальчиков и пожалеть. Но для подростка иметь шрамы – повод для гордости. Подросток (и я не скажу «подросток – мальчик», потому что знаю, в значительной степени это касается и девушек) будет гордиться шрамами. Это знак взрослости. Подросток чувствует в себе силы быть взрослым, но не имеет возможности это воплотить. Отсюда культ боли, культ страданий, приобретающие в разное время разные формы, но суть остается одной и той же. Я знаю случаи, когда девушки и с университетским образованием сигарету тушили о руку. Поэтому не надо представлять инициацию как жестокое варварское издевательство над мальчиками. Этот обряд психологически отвечает потребностям подростка. Но у кого-то эти потребности выражены сильнее, у кого-то слабее, а всех принудительно подвергают и ничьего мнения не спрашивают. В этом смысле наше общество гуманно, не заводит бедных мальчиков в лес, не вырезает ремни из спины и не отрубает мизинцы. Что мы имеем в итоге? Суицидальные и мазохистские тенденции в современных молодежных сообществах, где-то ярче, где-то слабее. Общество делает вид, что этого не существует, замалчивает. И каждый из подростков удовлетворяет эту потребность как может. Отсюда и процент самоубийств, часто не от горя, а от любопытства (заглянуть – загляну, но обратно не выгляну). Естественно, в 1930-е годы Пропп подобного не мог написать. И даже, я думаю, ему и в голову не приходило, что это обряд отвечал психологическим требованиям посвящаемых.
Теперь следующий момент, о котором отчасти мы уже говорили. Для мифологического мышления не существует взросления. Мы это упоминали применительно к эпическому герою, который сразу рождается взрослым. Здесь мы имеем дело с тем же самым: для нас, цивилизованных людей, есть процесс взросления; для архаического человека взросления нет. Чтобы появился взрослый, ребенок должен умереть. И инициатические пытки отвечают в том числе и этой задаче. Человек, пройдя через эти пытки, ощущает, что он умер как ребенок и появился как взрослый.
Далее Пропп блистательно пишет о Бабе-яге. Это действительно одно из лучших мест в его книге. Пересказывать все это я не буду – читали. Некоторые комментарии. Когда Пропп пишет об избушке, он не может дать внятного объяснения тому, почему у нее курьи ножки. Пишет, что это нога животного, но ножки никогда не «куриные» и тем более не петушиные, не какого-либо другого животного или птицы. Ножки только «курьи». Что это такое? Избушка Яги представляет собою гроб, и, соответственно, Яга является живым мертвецом. Дело в том, что такие крохотные избушки чрезвычайно широко были распространены, а кое-где в Сибири встречаются и сейчас, в качестве особой формы погребения. Традиционно высоких жрецов, шаманов, царей хоронили через так называемое воздушное погребение: тело оставалось на воздухе, и дальше его или склевывали птицы, или оно естественным образом разлагалось (были и другие менее или более «эстетические» формы). В частности, для сибирских шаманов в лесу устраивали специальные кладбища. Когда шаман умирал, его тело, пока оно еще не окоченело, скручивали, придавая ему позу эмбриона (свернувшегося спящего человека). В таком виде относили в лес. Строили специальный домик по размерам уже скорченного трупа и на специальной полянке, где таких домиков уже не один и не два, оставляли. Этот домик стоял на воздухе, то есть на специальных ножках. Чтобы эти самые деревянные ножки нехорошие жуки-короеды как можно дольше не сгрызли, их окуривали дымом. Таким образом, курьи ножки никакого отношения к курице, петуху, гусю, индюку и утке не имеют. Это окуренные дымом ножки воздушного погребения.
Далее Пропп пишет о мужском доме, то есть о доме в лесу, где живут юноши после инициации, обучаясь навыкам охоты и священной традиции племени. Да, это нам дает и «Белоснежку», и ее пушкинский вариант – «Мертвую царевну и семь богатырей», Пушкин невольно оказывается ближе к древним ритуалам, потому что его богатыри занимаются «молодецким разбоем», а реальные обитатели мужских домов занимались просто в том числе и разбоем, причем не только по соседним племенам, но свое племя они тоже грабили. Это санкционированная обществом деструктивность такого молодежного сборища. У нас это общество запрещает, что приводит опять-таки к более или менее нехорошим последствиям – от «вписки» хиппи до дворовых банд. Когда общество это санкционирует (например, считается очень достойным уезжать волонтерить в какую-то глушь, и это волонтерство серьезно организовано, риск для жизни есть, но минимальный), – то безбашенная молодежь перебесится, а потом становится нормально социализированной.
Почему-то у студентов возникают сложности с вопросом об эволюции образа змея. Рассмотрим подробнее. Обращаю ваше внимание на мотив происхождения змея от змея, о чем Пропп пишет с исчерпывающей полнотой (и мы это уже разбирали). Само змееборчество может иметь следующие формы. Наиболее архаичная: поглощение и последующее изрыгание без дополнительных усилий со стороны героя (или они минимальны) – между героем и змеем борьбы как таковой не происходит. Следующий этап, стадиально более поздний: герой начинает терзать чудище изнутри. Одним из самых ярких примеров является поединок финского Вяйнемёйнена с великаном. Великан проглатывает Вяйнемёйнена, и тот устраивает у него в брюхе кузню, чтобы выбраться наружу. И в конце концов великан Вяйнемёйнена выплевывает. Более поздний стадиально пример: герой рассекает чудище изнутри. Яркие примеры есть в монгольском эпосе. И самый поздний вариант боя со змеем – отсутствие мотива поглощения как такового. Герой просто сражается с чудищем без всякого поглощения.
В остальном Проппа я не буду вам пересказывать, его надо просто очень тщательно прочесть, потому что, как я уже много раз говорила, инициатические представления лежат в основе шаманского мифа, а из него вырастают все типы сюжетов. И, как мы с вами убедимся, за якобы реалистичными персонажами стоят змей, Баба-Яга, волшебный помощник и прочие мифологические персонажи, просто их переодели, но логика сюжета остается прежней, отчего при просмотре какого-нибудь фильма возникают возмущения типа «так не бывает!», «где логика?!» – а она в мифе. Так что читайте «Исторические корни», а я в дальнейшем буду ссылаться на эту книгу без дополнительных пояснений, поскольку я полагаю, что она вами прочтена[2].
Лекция 5. Египетская мифология
Египетской мифологии в рамках данного курса мы уделим всего одну лекцию. Это будет сделано по вполне понятной причине: по Египту у нас сейчас книг неизмеримое множество. Они есть и хорошие, и отличные, и терпимые. Одним словом, я скорее сейчас обозначу какие-то основные моменты, связанные с египетской мифологией, в значительной степени оставляя ее вам для самостоятельного разбора. Литература эта легко доступна. В первую очередь это книга Милицы Матье «Мифы Древнего Египта». Я рекомендую читать именно ее, потому что эта книга хотя и небольшая, но она очень здорово освещает многие ключевые моменты. А кого интересуют огромные списки богов, тот все может найти при желании сам.
Мировоззрение и богиТрадиционно, когда мы говорим о мифологии Древнего Египта, мы начинаем разговор о богах в образе животных. Я не буду их всех перечислять. Я хочу обратить ваше внимание на следующий важный момент. Почему у египтян боги, как нам известно со школьной скамьи, изображались со змеиными, птичьими и так далее головами? Это частный случай одного из главнейших правил культуры Древнего Египта. Правила, которое было нарушено в истории Египта всего один раз. Это правило гласило, что новые культурные напластования, новые идеи в мифологии, искусстве, религии могут быть наложены только на уже существующие. И поэтому египетское искусство на протяжении тысячелетий менялось настолько мало, что, положа руку на сердце, это заметно одним египтологам, а обычный человек не улавливает разницу между искусством Древнего и Нового царств. Традиция была незыблема. Если изначально образы богов как животных восходили, вероятно, к тотемизму и точно к культу животных (тотемизм и культ животных – разные вещи: тотемизм – вера в то, что данное животное является предком людей и соответствующего вида животных, а культ животных имеет самые разные проявления), позже это остается данью тысячелетней традиции, которая не будет меняться. Из зооморфных образов божеств я хочу обратить ваше внимание на несколько из них. Во-первых, на обилие божеств в облике сокола. И на обилие божеств с именем Гор. То, что Гор – сын Осириса и Исиды – отомстил за отца, коварно убитого нехорошим Сетом, в той или иной форме известно почти всем. Кстати, насколько Сет был нехорошим, мы еще будем разбираться. Но сейчас нас интересует другое. Гор, сын Осириса, – один из ряда богов с этим именем. Еще был Гор Обоих Горизонтов, изображающийся в обличье крылатого солнца. Еще был Гор Бехдетский, знаменитый победитель множества темных сил, которые в египетской культуре имели образ крокодилов и бегемотов (откуда через христианские апокрифы возникает и кот Бегемот у Булгакова). Божеств в облике сокола огромное количество – десятки, если не сотни. Желающие найдут это в справочниках.
В Египте плодородие зависело от разлива Нила. Египет – страна, которая из-за своих природных особенностей не знала оплодотворяющей силы весенних гроз. В Египте грозы бывают только в пустыне, ни с каким оплодотворением почвы они не связаны. Божеством грозы был тот самый злодейский или не очень злодейский Сет – убийца Осириса. И поэтому функции, которые у других народов несет бог-громовержец (в частности это функция змееборца), в египетской культуре были перенесены на богов света, и как раз на богов в обличье соколов. В первую очередь это касается не столько Гора, сына Осириса, сколько Гора Бехдетского.
Образ, противоположный соколу, – змей. Змей по определению во всех культурах есть существо амбивалентное, двоякое. И действительно, в Египте мы имеем, с одной стороны, благого змея (самый известный – защитник фараона, змея на короне; благие змеи, связанные с жатвой, земледелием; змея – хранительница некрополя; змей-помощник из преисподней); и с другой – мы будем иметь змеев отрицательных: гад, он и есть гад. Напомню, что слово «гад» помимо своего переносного значения имеет и прямое: то, что традиционно объединяет понятия «пресмыкающиеся» и «земноводные». И я с завидной регулярностью буду употреблять слово «гад» в прямом смысле. Далее.
Бык и корова – казалось бы, биологически один и тот же вид животных – в Древнем Египте связываются с совершенно разными комплексами представлений. Культ быка представлял в Египте одну из форм культа вождей. Что такое культ вождей? Вождь является воплощением благополучия страны. На самом деле в традиционных обществах, где действительно представлен культ вождей, вождь не имеет политической власти. Он является живым талисманом. Пока он молод, здоров, полон сил, в том числе и сексуальных, он является залогом благополучия страны. Если он начинает стареть, его убивают. Причем убивают особым образом – без пролития крови. Применительно к Египту это было утопление. Труп потом выуживают и бальзамируют. В Египте культ вождей применительно к фараонам ушел в прошлое, вернее, приобрел довольно любопытную форму в ритуале хеб-сед, о котором мы позже поговорим несколько подробнее. А так он сохранил достаточно чистую форму применительно к быку Апису, который, пока полон сил, – живое божество, но, когда стареет, его топят, тело бальзамируют и ищут новое воплощение этого Аписа – черного быка с белыми отметинами. Вот такой вот живой талисман.
Что касается коровы, то это совершенно другой круг представлений. В Египте земля связывалась (все не так, как в Евразии) с мужским началом, а небо – с женским. С чем это связано? Однозначного ответа нет. В конце концов, действительно оплодотворяющей функции неба не было, и это хотя бы одно из объяснений. Небо – женское божество. Небо представлялось в разных ипостасях. И в частности в образе коровы. И не просто коровы, а фактически формы Богини-Матери. Замечу, что Богиня-Мать – это не просто воплощение жизни и смерти, это божество самодостаточное, которое не имеет равновеликого супруга или иногда не имеет супруга вообще. Богиня-Мать каждое утро на востоке рождает златого теленка-солнце, днем он движется по ней – по небу, по матери, по корове, – к вечеру он доходит до ее рта и одновременно стареет, она его проглатывает, от зачатия беременеет, ночью вынашивает и на рассвете она его снова рождает на востоке. Желающие могут продолжить этот цикл. Перед нами чистый образ Богини-Матери, у которой супруга вообще никакого нет. Этот миф о небе как о корове и образ солнца как златого теленка держался в Египте достаточно долго, и тексты тоже вполне хорошо сохранились. Одновременно небо представляется женщиной – богиней Нут. Одновременно небо представляется рекой – небесным Нилом, по которому солнце плавает в своей ладье. Мы имеем изображение солнца, действительно плавающего по корове. Как я уже сказала, египтяне не заботились о логичности, они заботились о том, чтобы никогда не отрицать представления, которые освящены авторитетом тысячелетий.