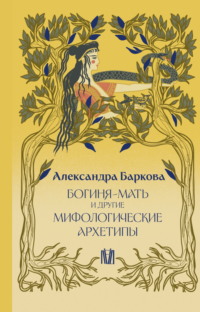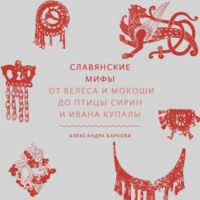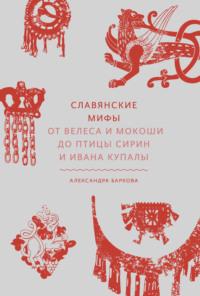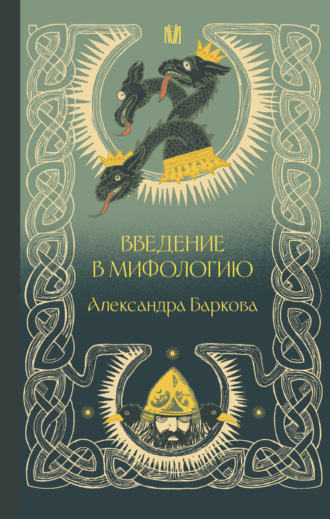
Полная версия
Введение в мифологию
Египет додинастический представлял собой сорок (чуть больше) областей, которые называются «номы». И соответственно, когда он был объединен, возникла первая династия, появилась задача объединения номовых мифологий. Хотя как такового окончательного объединения никогда не происходило. В каждом номе была своя основная триада богов, представляющая семью: бог, богиня и их сын. И эти номовые мифологии сосуществовали с центральными. Естественно, все сорок номовых мифологий мы с вами разбирать не станем – мы не египтологи. Я обращу ваше внимание на некоторые из них. Самая известная – мифология города Гелиополя. Гелиопольская девятка – генеалогия, включающая имена Осириса, Исиды, Сета и Гора. Это сказания о происхождении богов. Согласно этим представлениям, изначальное божество – Атум: земляной холм, поднимающийся в первозданных водах. Он порождает первую пару богов – это Шу, его сын, и дочь Тефнут. Шу – бог воздуха. Образ Тефнут менее конкретный. Относительно Шу нужно сделать уточнение. То, что это бог воздуха, написано во всех справочниках. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что Шу, как мы это увидим в дальнейшем, – бог, поднимающий небо над землей. Это один из чисто средиземноморских персонажей – антропоморфное воплощение мировой оси. Да, он связан с воздухом, но в нашем понимании бог воздуха – это что-то связанное со стремительностью, подвижностью и так далее. Здесь все наоборот. Это скорее антропоморфная мировая ось. И если Шу воплощает собой такой космический принцип незыблемости (мироздания еще нет, ось уже есть), то Тефнут представляет собой весьма своеобразную пару к Шу. Недаром в традиционной школьной интерпретации от нас хотят получить ответ на вопрос «бог чего?» При такой формулировке мы не можем найти ответа относительно Тефнут. Это воплощение жизненных сил. Причем сил фактически всей Вселенной.
С Тефнут будут связаны два мифа, мы будем их разбирать: это миф об удалении Тефнут-Хатхор из Нубии и миф об истреблении людей. В обоих случаях речь идет о том, что, если Тефнут удаляется, происходит катастрофа. Шу – это незыблемая вертикаль, соответственно, Тефнут – его пара и его антипод. Это не просто горизонталь, она не просто будет всегда убегать. Это именно идея периферии. Это изменчивость. Это, позвольте мне сказать, образ зоны риска. В то время как Шу – устойчивость. И когда Тефнут будет, как девочка, убегающая из родительского дома, удирать, то угадайте с трех раз, кто ее будет возвращать. Разумеется, Шу. Вот что представляет собой эта пара.
Далее – Небо и Земля. Геб – бог земли в образе человека со змеиной головой. И Нут – богиня неба. О ее коровьих элементах облика мы уже говорили. Шу и Тефнут вступают между собой в брак, порождают Геба и Нут. Геб и Нут тоже вступают между собой в брак. В Древнем Египте это было обычной практикой. В мифах все женились на родных сестрах. В реальности в основном на двоюродных, троюродных. Это приводило к тому, что династии сменяли одна другую с бешеной скоростью, то есть вырождались. Это факты известные. Геб и Нут порождают четверку богов: Осириса, Исиду, Сета и Нефтиду. В свою очередь, Исида и Осирис вступают между собой в брак и порождают Гора. И все это вместе называется Гелиопольской девяткой богов. Путем несложных подсчетов можно понять, что здесь арифметическая ошибка. Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида, Гор – список из десяти богов. Тем не менее эта семья устойчиво называется Гелиопольской девяткой. В чем дело? Во-первых, замечу, что понятие «девятка богов» устойчиво выступает в Египте как символ множества, как символ совокупности богов. И более того, не просто совокупности, а целокупности (завершенности). И в текстах может встречаться «девятка богов» без конкретизации, кто в нее входил, или же с очевидными погрешностями в арифметике. Есть замечательная статья Антеса «Мифология в Древнем Египте», где автор доказывает, что во времена первых династий эта генеалогия действительно представлялась «девяткой» по одной очень уважительной причине. Фараон мыслился живым богом, а именно – Гором. И эта божественная генеалогия была необходима для оправдания того очевидного факта, что бог рождается и умирает, но всегда остается богом на престоле. И составить девятку богов из десяти имен оказывается очень просто. Дело в том, что Гор и Осирис – одно и то же божество. Только Гор – божество в мире живых, а Осирис – божество в мире мертвых.
Еще по поводу мира живых и мира мертвых. Как вы прекрасно понимаете, одно упоминание о культуре Древнего Египта сразу рождает «мумии», «пирамиды», «росписи саркофагов», соль-перец по вкусу… То есть все, что связано прежде всего с культом мертвых. Я отмечу важный момент: по воззрениям древних египтян, факт физической смерти не гарантировал попадания в страну мертвых. В страну мертвых можно было попасть только при соблюдении определенных ритуалов или ряда других условий в зависимости от эпохи и представлений. И даже то, что бог Осирис оказывается убит своим братом Сетом, совершенно не гарантировало ему попадание в страну мертвых. В страну мертвых он попал, когда его сын Гор дал проглотить Осирису око Гора. Тогда Осирис воскресает. Но не для жизни в мире живых, а для полноценной, насыщенной, интересной жизни в стране мертвых. Что же пишет Антес по поводу того, что Гор и Осирис были одним и тем же божеством? Какие бы у нас ни были мифы о Сете и Осирисе (а на эту тему египтяне продолжали писать на протяжении всей истории их культуры), мы все равно имеем тот факт, что Исида зачинает своего сына Гора от мертвого Осириса. По поводу Сета сразу оговорюсь. Чем ближе к современности и, кстати, чем ближе к грекам, тем все упрощается. Но что такое греки? Для греков египетская культура – экзотика. Будут ли они разбираться в ней? И будем ли мы разбираться в экзотике каких-то непонятных народов? Греки тоже особо не разбирались. В греческом изложении, в частности у Плутарха, благодаря которому мы очень многое знаем, Сет будет типичнейшим злодеем, который из злости, ненависти убивает брата своего Осириса. В более архаичные эпохи Сет не мыслился злодеем, хотя Осириса действительно убивал. Но тут свои тонкости. Как бы то ни было, Осирис убит Сетом и Исида беременеет Гором от мертвого мужа. В образе соколицы она садится на его труп – так происходит зачатие.
Антес так пишет о древних (в эпоху первых пяти династий) ритуалах воцарения. Жил да был на земле фараон – бог Гор, – но умер. Приходит к жрецам наследник фараона и требует отцовский сан. Жрецы ему возражают на том веском основании, что ты – не Гор, твой отец был Гором. И наследник отвечает, что мой отец был Гором, но он умер, стал Осирисом, и теперь претендую на царство я – его сын Гор. Этот воображаемый диалог вы можете прочесть у Антеса, автор очень подробно его разбирает. И действительно, благодаря преемственности власти от отца к сыну, зачатому после смерти отца, осуществлялась смена поколений фараонов в эпоху первых пяти династий. Позже эта концепция перестала удовлетворять жрецов, и, соответственно, фараон стал уже человеком, хотя и сыном богов; и никаких осирисов-горов на престоле больше не было.
Еще хочу обратить ваше внимание на «Мемфисский теологический трактат». Это совершенно другая теология и теогония. Согласно этому тексту, бог Птах творит мир силой своей мысли. И более того, в трактате говорится, что ничто не имеет бытия, прежде чем его название не будет произнесено громко. Таким образом, мы имеем первый в средиземноморской культуре (задолго до Евангелия от Иоанна с его знаменитым «В начале было Слово») текст, где бог творит мир силой своего слова. Я не могу не заметить, что, по египетским представлениям, «не будет ничего, пока название не произнесено громко», слово – четко звучащее. В то время как, если обратиться к богословским представлениям о Логосе, всячески будет подчеркиваться нефизический характер Слова. В евангельском тексте это принципиально отлично от понимания слова как совокупности звуков.
ОкоМы более или менее «сотворили мир». И теперь обратимся к мифам об удалении Ока. Око – божественный глаз в египетской мифологии, вместилище жизненных сил. Божественным оком фараона является змея-урей в его короне. Но нас интересует Око богов. В первую очередь это касается Ра, а во вторую – Осириса. К Ра мы еще перейдем, а с Осирисом сейчас разберемся. В изложении мифа о мести Гора за отца Сет, сокрушая первого Гора, который потом станет Осирисом, вырывает у него око. Отчего Гор умирает, оказывается в состоянии между жизнью и смертью: он уже не жив, но в мир мертвых пока попасть не может. Затем, как неоднократно было сказано, от мертвого Осириса Исида зачинает Гора. Потом Гор сражается с Сетом, побеждая его. И отбирает око Осириса. Возвращает его отцу, отчего тот становится владыкой загробного мира и главой загробного суда. Антес и доказывает в своей статье, что речь идет о следующем: вырвано око у отца, его заново добывает сын и возвращает отцу. В более поздних концепциях, когда уже утрачено тождество Осириса-Гора, начинается такая путаница, которую я вам воспроизвести не способна. Вот что такое око как воплощение жизненных сил.
Но, как я уже сказала, воплощением жизненных сил верховного бога была богиня Тефнут. Какого верховного бога? Дело в том, что упомянутые мною решительные религиозные реформы для свержения пятой династии были связаны с возвышением нового божества – бога Ра. Бога солнечного света, солнца, движущегося по небу. Но невозможно внести принципиально новое, можно только накладывать что-то на уже существующее. В соответствии с этим общим правилом Ра оказывается внесенным в Гелиопольскую космогонию и отождествлен с изначальным холмом Атумом. Не спрашивайте меня, как солнце может быть отождествлено с холмом. Это нормально для египтян. Тефнут, таким образом, оказывается дочерью Ра и его оком – воплощением его сил. Применительно к бегству Тефнут мы имеем два уже упомянутых мифа: «Возвращение Тефнут-Хатхор из Нубии» и «Истребление людей». Я обращаю ваше внимание на то, что судьба этих двух мифов в египетской культуре была прямо противоположной. Миф о возвращении Тефнут-Хатхор из Нубии был одним из самых известных и самых распространенных в египетской культуре вообще. И вследствие того, что он был чрезвычайно распространен, до нас не дошло ни одной его целостной записи. Зачем записывать то, что и так известно всем? Ученые собирали его буквально по частям, по крупицам на основе позднейших сказок, на основе описаний храмовых процессий, изображений праздников. Этот миф носил ярко выраженный сезонный характер. Иными словами, Тефнут-Хатхор от своего отца убегала ежегодно, возвращать ее приходилось ежегодно, праздновалось это все тоже ежегодно на протяжении многих и многих веков. В противоположность этому миф «Истребление людей» – это текст. Он не связан с ритуалом, не носит, естественно, никакого сезонного характера. И формально эти два сюжета, как вы увидите, совершенно друг на друга не похожи. Но если смотреть глубже, то мы выясним, что они являются отражением одного и того же комплекса представлений. Подчеркиваю, не восходят к одному источнику, а именно являются отражением общих представлений.
«Возвращение Тефнут-Хатхор из Нубии» начинается с того, что Тефнут, обидевшись, разгневавшись на отца, уходит в Нубию, где, как вы понимаете, находится верховье Нила. Она бродит по Нубийской пустыне, приняв обличье или львицы, или (в более поздних текстах, уже полусказочных) кошки, на всех злится. И поскольку воплощение жизненных сил покидает Египет, то там, естественно, начинается засуха, мор. Богиню срочно необходимо вернуть. Возвращать отправляются ее брат Шу (чтобы заодно жениться на сестре) и бог мудрости Тот. Применительно к Тоту вам может встретиться школьный вариант: Тот – бог мудрости, астрономии, письменности и так далее. Это все так, но не совсем. Дело в том, что Тот в первую очередь связан с идеей границ. Мир явленный, возникая из небытия, становится по отношению к небытию имеющим границы. И письменность вообще и в Египте в частности возникает отнюдь не для сакральных нужд (сакральные тексты записываются в самую последнюю очередь), а для фиксации межевых договоров и долговых обязательств. Бог Тот связан с письменностью, исчислением земельных участков, с астрономией, позволяющей рассчитывать разливы Нила, и так далее. Но в сказках он предстает как бог мудрости, начинает загадывать Тефнут-Хатхор загадки. В поздних текстах все внимание перенесено именно на загадки. В конце концов, развеселившись, Тефнут (тема царевны Несмеяны: состояние царевны Несмеяны – это практически пребывание в мире смерти, и рассмешить ее – значит вернуть в мир жизни) соглашается выйти замуж за своего брата Шу, и они все вместе возвращаются в Египет. Но возвращаются не мгновенно. Они идут с юга (из Нубии), с верховьев Нила. И совершенно очевидно, что процесс их возвращения – это не что иное, как разлив Нила. Отсюда празднования возвращения Тефнут-Хатхор, ежегодные процессии, и, кстати сказать, на празднествах в честь божественной свадьбы Хатхор и Шу идет весьма обильное возлияние алкогольных напитков. Я обращаю ваше внимание на эту деталь, которая в этом мифе, казалось бы, не играет никакой роли. Ну веселятся, ну пьют. Что в этом такого? Абсолютно ничего. Но вы увидите в дальнейшем, что эта деталь, совершенно незначимая в данном мифе (ее спокойно можно опустить при изложении), оказывается ключевой в версии другого мифа – «Истребление людей».
Это достаточно большой миф, целиком я излагать его не буду. Его легко найти в книге Матье «Мифы Древнего Египта». Нас только интересует эпизод, непосредственно связанный с истреблением. Верховный бог Ра состарился, люди перестали ему повиноваться. Он обиделся на них. Сначала просто удалился, а затем насылает на них свою дочь Тефнут-Сохмет в обличье львицы (тут уже без вариантов), которая начинает людей пожирать. Спустя какое-то время уничтожение людей принимает такие масштабы, что Ра ужасается и пытается свою яростную дочь остановить. Но она так увлеклась, что остановить ее не представляется возможным. Тогда Ра приказывает принести красный минерал, смешать его с пивом (египтяне пили пиво) и вылить на поля. Богиня увидит это, примет за кровь и в прямом смысле слова налакается. Что и происходит. После того как налакалась, заснула. Когда проснулась, ее ярость унялась, и требованию отца прекратить истребление людей она подчинилась. Казалось бы, два этих мифа совершенно несхожи. Однако в обоих случаях речь идет о том, что богиня Тефнут в разных ипостасях является Оком своего отца – бога Ра. Ее удаление в обоих случаях вольно или невольно является причиной гибели огромного количества людей. И там и там необходимо ее вернуть. Ее возвращение прямо или косвенно оказывается связанным с обильным употреблением алкогольных напитков. Потому я и упомянула то веселье при возвращении Хатхор. На первый взгляд, там – незначащая деталь, здесь – сюжетообразующий элемент. И безусловно, мы имеем в образе Тефнут-Хатхор еще не миф о воскрешающем и умирающем боге. Никакие боги у нас здесь не умирают и не воскресают. У нас есть не бог, а зверь, который физически (ногами) уходит в страну мертвых и потом оттуда возвращается. Перед нами архаичная форма того, что потом превратится в распространеннейший в Средиземноморье миф об умирающем и воскресающем боге. Здесь это зверь, который уходит в страну мертвых, и это приводит к гибели людей, затем из мертвого царства возвращается, и это возвращает людей к жизни.
Говорить о египетской культуре, не упоминая заупокойного ритуала, невозможно. Перед тем как перейти к заупокойной тематике, я хочу обратить ваше внимание на один ритуал, который чрезвычайно важен для понимания египетской культуры и вообще для понимания египетского искусства в частности. Огромное количество статуй фараонов, дошедших до нас, было непосредственно связано с этим ритуалом: фараоны в облачении, которое было сделано специально для ритуала, и сами статуи в нем были задействованы. Речь идет о ритуале хеб-сед. Это ритуал обновления жизненных сил фараона. Фараон мыслился воплощением жизненных сил своей страны и по истечении тридцатилетнего срока царствования был уже слишком стар, чтобы править. И тут один из двух вариантов. Или фараона убивать и возводить на престол нового, молодого и красивого. Эта идея почему-то фараонам не нравилась. Или же провести обряд фактически инициации для обновления жизненных сил фараона. Для этого обряда со всех областей Египта свозились в столицу все номовые божества (их изображения). Главная статуя, при ней все необходимые жрецы, при жрецах вся их обслуга и так далее. Событие неординарное. Теоретически после первого хеб-седа через три года фараон должен был проводить следующий, затем вновь следующий, но, насколько я понимаю, столь часто проводить этот ритуал было непросто для экономики страны. И поэтому так часто он и не проводился. Но правила были таковы. Матье дала подробное описание хеб-седа, все это есть на русском языке. Но я должна вас предупредить: этот ритуал, с точки зрения читателя-неегиптолога, невероятно скучен. Фараон обязан поприветствовать каждое номовое божество в соответствии с теми или иными обычаями. То есть ритуал состоит из огромного количества повторяющихся процессий. Впрочем, есть и интересные моменты. Во-первых, главное божество ритуала – бог Упуат. Бог в обличье волка. Напомню, что волк у подавляющего числа народов земного шара мыслится проводником в мир мертвых (можно вспомнить и русскую сказку «Иван Царевич и Серый Волк»). И символически провести фараона через смерть, естественно, мог именно бог Упуат. Потом нас будет интересовать его близкий коллега – бог Анубис. Бог в обличье шакала, который является проводником по миру мертвых, проводником каждого умершего человека. Итак, Упуат – главное божество, штандарт его несли впереди всех божеств во время ритуала. Самой колоритной частью хеб-седа была так называемая смена фараона. Фараон считался умершим, но, «умирая», он оставлял документ о престолонаследии, где завещал престол самому себе. И дальше он должен был, пройдя через обновление, доказать, что он стал молодым и сильным, ритуальным бегом (естественно, фараон никуда не бегал, а бегал кто-то за него). Затем он из рук своей статуи забирал документ и в качестве наследника самого себя воцарялся. Кстати, в хеб-седное одеяние входил бычий хвост. В этом отголосок единства культа фараона и быка, и именование «бык обеих земель» входило в пятичленную титулатуру фараона.
Заупокойный ритуалТеперь переходим к анализу путешествия в мир мертвых. Я хочу обратить ваше внимание на то, что практически у всех архаичных народов заупокойное бытие человека никогда не связывается с его моральными, нравственными и тому подобными качествами. Оно определяется только формой погребения. И в Египте на протяжении многих тысячелетий дело обстояло точно так же. Как человека похоронят, как будет сохранена его гробница, такое у него и будет загробное существование. При этом египтяне огромное значение придавали сохранению тела в целости. Откуда и мумифицирование. В крайнем случае – изготовление статуи, если с мумией какие-то проблемы. Замечу, что, когда Египет стал христианским, мумифицирование продолжалось. Никуда оно не уходило. Вообще говоря, христианству оно нисколько не противоречит. И только тогда, когда Египет захватили арабы и он стал исламским, пришел конец мумифицированию.
Мы сейчас будем подробно говорить о загробном существовании душ, о загробном суде и т. д. Где и каким образом путешествовал египтянин? Речь идет, сразу оговоримся, о египтянине знатном. Потому что бедняка после смерти независимо от погребения ожидал труд во благо всех поколений фараонов и прочей египетской знати. Можно заметить, что и фараоны после смерти могли работать. Например, устойчиво представление о том, что фараон после смерти становится одним из гребцов в ладье Ра, на которой бог плавает днем по небесному Нилу, а ночью – по подземному. Поскольку история фараонского Египта насчитывала почти три тысячелетия, можно представить, сколько гребцов на ладье Ра, все гребут – получается такой «Титаник» на ручной тяге. Кто и как путешествует? Этот момент действительно чрезвычайно важен, потому что для египтян гробница была образом потустороннего мира. Так, загробное путешествие проходит одновременно и в мире мертвых, и по гробнице. Почему гробницы состояли из нескольких камер, соединенных коридорами? Потому что каждая часть гробницы соответствовала определенному уровню, части преисподней, где и странствует душа умершего. И вполне логично, что в наиболее опасных местах именно преисподней и одновременно гробницы-преисподней необходимо написать заговоры, заклинания – то, что будет оберегать душу фараона или знатного человека от опасностей. Итак, эти заговоры пишутся на стенах гробницы. Это и есть знаменитые «Тексты пирамид», которые были исследованы, описаны, и Матье достаточно подробно пишет об этом.
Но все-таки – что путешествует? Изначально, конечно, египтяне представляли себе, что путешествовать будет сама мумия. И мумифицирование с этим и связано, едва ли не с представлением о том, что именно эта мумия оживет. Одновременно вырабатываются представления о двойниках, которые возникают после смерти. Я уже обращала ваше внимание на то, что понятие «двойник» очень серьезно отличается от понятия «душа». Хотя их часто смешивают. Мы уже видели, что понятие «двойник» широко представлено в культурах шаманизма. И в Египте оно тоже имеется. Чем двойник отличается от души? Еще раз повторю, что, если душа выйдет из тела, – это ведет к смерти. В то время как двойник вполне может – а в некоторых случаях и должен – путешествовать вне тела, при этом тело остается живым. В заупокойных представлениях египтян с мумией связано одно, а с различными двойниками – другое. Двойников может быть несколько, а в некоторых случаях даже много. Мы с вами перечислим только основные типы двойников. И наверняка они вам встречались. Основной двойник, с которым связаны наиболее интересные приключения, зовется Ка. Именно Ка отправляется на суд Осириса. И все, что связано с этим судом, – это, собственно, приключения Ка. Именно Ка ведет по загробному миру Анубис. Другой двойник, не менее колоритный, не менее значимый, – это Ба. Ба – это дух в образе птицы. И если Ка путешествует по преисподней, то Ба летит на небо. Причем с Ба был связан специальный обряд отверзания уст – фактически оживления мумии, после которого она начинает свое активное посмертное существование. И, как я уже сказала, Ба – это дух, который улетает на небо. И как раз Ба фараона становится гребцом в его ладье.
Еще одним двойником была мумия тела. Здесь я хочу обратить ваше внимание на известный момент: по представлениям египтян, для любого загробного существования необходимо сохранение тела. Это с одной стороны. С другой стороны, гробница – это образ преисподней. И если что-то в гробнице нарушить, то попасть в загробный мир будет затруднительно. Я подвожу вас к тому, что самым страшным преступлением в Древнем Египте, за которое полагались самые тяжкие казни, было расхищение гробниц. Как вы понимаете, если за что-то полагаются самые страшные казни, значит, это преступление очень и очень распространено. И действительно, гробницы разворовывались по-страшному. И мы знаем, что гробница Тутанхамона единственная дошла до нас невскрытой. А какую же казнь, самую ужасную египетскую казнь, придумали для расхитителя гробниц? Это сожжение или по меньшей мере отрубание головы, то есть лишение человека возможности обрести загробное бытие. В более поздних египетских текстах возникает образ грешников, в первую очередь – расхитителей гробниц, которых на том свете терзают (они все-таки попали на тот свет) в соответствии с их страшным преступлением: режут, жгут, варят. Мы с вами выходим на образ «адской кухни», которая имеет в нашей культуре египетское происхождение. И связан этот образ изначально с карой для расхитителей гробниц. А все остальное пришло потом.
Итак, знатный египтянин умирает. Но перед тем как он умрет, его уместно снабдить «путеводителем». И такие «путеводители» по миру мертвых нам хорошо известны. Наиболее ранние образцы такой заупокойной литературы – это «Тексты саркофагов». Позже это знаменитая «Книга мертвых». Если вы будете ее читать (она издана, и неоднократно), то увидите, что это своеобразный квест; любителям компьютерных игр он будет хорошо знаком просто потому, что компьютерные игры в весьма упрощенной форме воспроизводят все эти идеи инициатических странствий. Я не в силах пересказать, какие потрясающие приключения ждут Ка умершего, который идет в сопровождении Анубиса. Но ключевое событие – он добирается до загробного суда. Да не одного, а двух. Во-первых, он должен держать ответ перед сорока богами – номовыми богами Египта. И он произносит так называемую исповедь отрицания. Он говорит, что не совершал сорок грехов. Не посягал на имущество жрецов, не отводил воды в дни разлива (тоже считалось грехом страшным), не крал, не прелюбодействовал, не лжесвидетельствовал и так далее. Этот список вы можете легко найти. После этого он попадет на суд Осириса. На суде самый интересный эпизод – взвешивание его сердца. На одной чаше весов находится его сердце (это тоже двойник; любопытно, что у египтян существовали заговоры, которые не допускали, чтобы сердце свидетельствовало против человека на суде), на другой – перо богини Маат, богини истины. Если человек умер с легким сердцем в прямом смысле слова, не отягченным грехами, то чаши будут в равновесии; быть легче пера богини Маат невозможно. А если человек прожил жизнь плохо и отягчен грехами, тогда чаша, естественно, перекосится и умершего (его Ка) пожрет страшное чудовище Амемет, и тем история закончится.