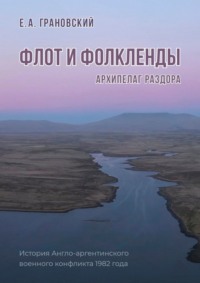Полная версия
Флот и Фолкленды. Схватка за острова. История Англо-аргентинского военного конфликта 1982 года
Вооружение корабля предназначалось для борьбы с воздушными целями (в первую очередь), а также надводными кораблями, подводными лодками и стрельбы по береговым объектам. Сбор, обработка и отображение данных о тактической обстановке и управление оружием осуществлялось при помощи автоматизированной боевой информационно-управляющей системы ADAWS-4. Радиоэлектронное и радиотехническое вооружение включало поисковую РЛС ОВЦ Тип 965R, РЛС ОВНЦ Тип 992Q, две РЛС УО Тип 909, НРЛС Тип 1006, подкильные ГАС Тип 184М и 162М, станцию РТР UAA-1, терминал спутниковой связи SCOT, КВ и УКВ радиостанции, а также буксируемый акустический охранитель Тип 182. Для защиты от противокорабельных ракет предназначался корабельный комплекс пассивных помех с двумя восьмиствольными 76-мм ПУ «Корвус». Средств активного РЭП корабль не имел.
Максимальная дальность действия двухкоординатной обзорной РЛС Маркони Тип 965R, массивная вращающаяся антенная решетка которой располагалась наверху носовой надстройки перед фок-мачтой, по спецификации составляла 280 морских миль, однако фактически она обеспечивала обнаружение высоколетящих самолетов не дальше 110 морских миль. Для маловысотных целей эта величина ограничивалась дальностью радиогоризонта, а по сверхмалым высотам возможности станции стремились к нулю из-за сильной подверженности воздействию помех, возникающих при отражении луча от морской поверхности, особенно в штормовых условиях. Диапазон рабочих частот составлял 216—224 МГц – именно так, в 1982 году Королевский флот имел на вооружении радар метрового диапазона! Эта РЛС, служившая в разных модификациях с начала 1960-х, считалась устаревшей, однако британцы слишком затянули с доводкой создававшейся ей на замену РЛС Тип 1022, которой эсминцы Тип 42 стали оснащаться начиная со второй серии. РЛС обнаружения воздушных и надводных целей Тип 992Q с антенной на верхушке грот-мачты, работавшая в диапазоне 2940—3060 МГц, имела вдвое меньшую дальность действия, однако обладала гораздо большими возможностями по обнаружению низколетящих самолетов и противокорабельных ракет. Радиолокационные средства, работающие в активном, излучающем режиме, дополнялись станцией пассивной радиотехнической разведки UAA-1, которая по оценкам британских специалистов должна была обнаруживать излучения РЛС кораблей и низколетящих самолетов на дальности не менее 30 миль, радиолокационных ГСН противокорабельных ракет – не менее 20 миль.
Основной системой оружия являлся зенитный ракетный комплекс «Си Дарт», поступивший на вооружение ВМФ Великобритании в 1973 году под обозначением GWS-30 (впервые установлен на ЭМ «Бристоль» (Тип 82)). В его состав входила пусковая установка с двумя направляющими балочного типа и автоматизированная система управления огнем с двумя РЛС сопровождения и подсветки цели Тип 909, что позволяло одномоментно обстреливать две цели. Комплекс мог поражать воздушные цели в диапазоне высот от 30 до 18 000 м. Максимальная дальность действия составляла 40 морских миль (74 км) по высотным целям и 24 морские мили (44 км) – по маловысотным, а время реакции – 20 секунд. В походном положении ракеты находились в погребе боезапаса (вместимость 22 ЗУР), а при необходимости подавались на пусковую установку. Процесс зарядки (перезарядки) ПУ укладывался в 30 секунд. ЗУР «Си Дарт» была выполнена по двухступенчатой схеме. Ступени – разгонная и маршевая. Скорость полета превышала 2,5M. Наведение выполнялось при помощи полуактивной ГСН. Ракета оснащалась стержневой либо осколочно-фугасной БЧ, подрыв которой осуществлялся по команде инфракрасного датчика цели. Длина ракеты составляла 4,4 м, а масса – 550 кг. В ходе учений «Спрингтрейн» эсминец образцово отстрелялся ракетами «Си Дарт» по сверхзвуковой воздушной мишени, однако война предъявляет гораздо более суровый спрос, как к самому оружию, так и к тем, кто им управляет.
К прочему вооружению относилась одноорудийная 4,5-дюймовая (114-мм) башенная артустановка Виккерс Mk.8 (дальность стрельбы универсального орудия – 22 км, досягаемость по высоте – 12 км), действовавшая под управлением системы управления огнем GSA-1, два одноствольных 20-мм орудия Mk.7 «Эрликон», расположенных на палубе надстройки по обе стороны от ходовой рубки, с ручным наведением, относившиеся скорее к категории противокатерного и противодиверсионного, чем зенитного оружия, два 7,62-мм пулемета L7A2 на крыльях мостика, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата STWS Мk.1, а также вертолет «Линкс» HAS.2 с ангаром в кормовой части надстройки55.
Нельзя не отметить аскетичность боевого оснащения британского эсминца. Если сравнить его с близким по размерам советским БПК проекта 61, мы увидим, что последний нес большее количество систем оружия. Впрочем, натовцы в целом проявляли тенденцию не перегружать свои корабли вооружением, как из соображений уменьшения верхнего веса, так и проявления финансовой бережливости.
Кроме трех эсминцев Тип 42, входивших в состав TG 317.8, двумя аналогичными боевыми единицами располагал ВМФ Аргентины. Поэтому, отправляясь на войну, британские корабли получили хорошо различимые с воздуха и в перископ опознавательные знаки: широкую черную вертикальную полосу в средней части корпуса от ватерлинии до верха дымовой трубы и рисунок в виде британского флага на крыше ходовой рубки.
Командовал «Шеффилдом» 42-летний кэптен Джеймс «Сэм» Солт. Глядя на его фотографию, неизбежно возникает вопрос, как такого человека вообще могли поставить командиром боевого корабля? Легче представить его в роли почтового служащего или страхового агента. Однако у британцев во многом свои оригинальные взгляды на военное дело, благодаря которым они нередко побеждали, но также и терпели тяжкие поражения. Возможно, также сыграло свою роль, что он происходил из известной военно-морской семьи: его отец погиб в 1940 году, командуя подлодкой «Трайяд», а крестным был Роберт Райдер, награжденный Крестом Виктории за рейд на Сен-Назер. Как бы там ни было, Джеймсу Фредерику Томасу Джорджу Солту удалось сделать успешную военно-морскую карьеру и, несмотря на бездарную потерю эсминца, завершить ее в чине контр-адмирала. Как утверждается, «сослуживцы восхищались его лидерскими качествами, озорным чувством юмора и умением мотивировать окружающих».
До «Шеффилда» в послужном списке кэптена Солта значились командование ДЭПЛ «Финвейл» (1969—1971), должности старшего помощника на ПЛАРБ «Резолюшн» (1973—1974) и командира АПЛ «Дредноут» (1978—1979). В январе 1982 г. он принял «Shiny Sheffy» от кэптена П. Дж. Эрскина. В Королевском ВМФ назначение старших офицеров на командные посты не лимитировалось военно-учетной специальностью. В течение карьеры офицер мог занимать должности по различным специальностям и даже переходить из одного рода сил в другой. Этим обуславливалось, что эсминцем командовал бывший подводник. Его старший помощник коммандер Майкл Норман пришел из морской авиации. До назначения на «Шеффилд» он был штурманом вертолета и получил известность участием 31 декабря 1978 г. в спасении команды терпящего бедствие траулера «Бен Эсдейл». Хотя каждый такой карьерный поворот предварялся прохождением офицерами соответствующего учебного курса в военно-морском колледже, их квалификация была объективно ниже, чем если бы они служили все время на надводных кораблях.
Корабль Ее Величества «Глазго»
Ближайшую к «Шеффилду» позицию в противовоздушной дозорной линии занимал эсминец УРО «Глазго». Этот корабль являлся шестым и последним в первой серии типа «Шеффилд». Он был построен на верфи «Суон Хантер» в Уолсенде, заложен 16 мая 1974 г., спущен на воду 14 апреля 1976 г. и вошел в строй 25 мая 1979 г. До начала Фолклендской войны он успел отметиться в Баренцевом море столкновением (навал правым бортом) с советским БПК «Адмирал Исаков», произошедшим 27 мая 1981 г.
В рассматриваемом эпизоде «Глазго» отличился тем, что первым обнаружил приближение аргентинских самолетов и оповестил об угрозе ракетного удара другие корабли, а четкие и грамотные действия расчета его ЦКП и командира кэптена Пола Ходдинотта, тоже, кстати сказать, бывшего подводника, могут служить укором кэптену Солту и его подчиненным и одновременно хорошей иллюстрацией, что и как нужно было делать, чтобы избежать ракетного попадания. Описание, приводимое Сэнди Вудвордом в книге «Сто дней», немного расходится в деталях, по хронометражу и значениям пеленгов, со сведениями отчета комиссии по расследованию обстоятельств потери эсминца «Шеффилд»56, однако дает наиболее полное представление о действиях эсминца во время аргентинской атаки.
«Я знал, – подчеркивает Вудворд, – что в случае любой опасности Ходдинотт будет редко, если вообще станет, покидать ЦКП. Я связывался с ним ранее этим утром, и он как раз высказал мнение, что аргентинцы сегодня нанесут удар с воздуха ракетами „Экзосет“. В своем дневнике он написал: „…Сегодня мы ожидаем решительного ответного удара. Наиболее опасным и неприятным с нашей точки зрения и наиболее привлекательным для них является удар „Супер Этандарами“ с ракетами „Экзосет“. Позже Пол сделал пометку: „Эти слова были написаны еще до рассвета 4 мая 1982 года“. Поскольку спутниковая система связи (SCOT) могла помешать обнаружению излучения радара „Этандаров“, он запретил ее использование в течение светлого времени суток».
Здесь необходимо сделать пояснение. На кораблях британского флота местом, откуда командир руководит действиями личного состава, применением оружия и использованием технических средств, является оперативный зал (operations room) или, в отечественной терминологии, центральный командный пункт, расположенный на нижней палубе и сочетающий функции главного командного пункта (ГКП) и боевого информационного поста (БИП). В ходовой рубке же управляется вахтенный офицер вместе с помощником-стажером и рулевой вахтой. В отечественном флоте, равно как и у американцев, иначе: главный командный пункт – это ходовой мостик, а БИП функционирует отдельно, его назначение состоит в сборе, анализе и оценке данных о тактической обстановке, поступающих от средств наблюдения корабля, и обеспечении командира информацией, необходимой для принятия решений.
Первоначально БИП, появившийся на американских, а затем и британских кораблях еще в годы Второй мировой войны, располагался в носовой надстройке, рядом с ходовой рубкой. Следующей вехой, в начале 1960-х годов, стал его перенос в подпалубное пространство с целью защиты от оружия массового поражения. Попутно была предпринята попытка запрятать туда, убрав с мостика, и самих командиров, которая в итоге провалилась практически повсеместно, кроме британского флота. Ибо уберечься от воздействия ядерного взрыва все равно невозможно, никакого серьезного бронирования для защиты от конвенционального оружия такой командный пункт не имел, в лучшем случае противоосколочное, а бомбы и ракеты, как мы дальше убедимся, чаще попадали именно в район нижних палуб. Концентрация постов управления оружием и радиотехническими средствами в одном месте не способствует боевой устойчивости корабля. В советском флоте командирам удалось отбиться от обязанности по боевой тревоге занимать место в «бункере», и согласно корабельному уставу 1978 года статус главного командного пункта получил ходовой пост, а бывший ГКП, расположенный на нижней палубе, стал называться центральным командным постом, а позже – центральным командным пунктом (ЦКП). В американском флоте он именуется боевым информационным центром. Там распоряжается старпом. А вот британские командиры как примерные бойскауты взялись использовать командный пункт в корпусе корабля.
На эсминцах Тип 42 центральный командный пункт располагался под носовой надстройкой на 2-й палубе, отделенный от внешнего борта внутренними коридорами, переборки которых обеспечивали ему дополнительную защиту. Помещение было маленьким и тесным, а боевой расчет насчитывал три десятка человек. Посреди всего этого царства дисплеев, планшетов и сосредоточенных лиц в огнезащитных капюшонах на возвышении располагалось командирское крутящееся кресло. При нахождении корабля в боевой готовности №2 расчет ЦКП дежурит в режиме шесть через шесть (либо, как на «Шеффилде», 6—4—4—4—6) часов. Несение командиром и старшим помощником командирской вахты на ЦКП в то время еще не практиковалось. Командир должен был спускаться туда при объявлении боевой тревоги или услышав вызов по громкоговорящей связи, обязанности старпома в британском флоте практически целиком сводились к решению административно-хозяйственных вопросов.
Сама же концепция «ГКП на основе БИП» утвердилась в Ройял Нэйви в значительной мере благодаря специфике корабельной боевой организации, где бразды управления оружием и радиоэлектронными средствами сосредоточены в руках специально обученных офицеров-операторов, несших дежурство на ЦКП и ставших главной опорой, своего рода «тактическими помощниками», а часто и замещавших командира корабля при принятии боевых решений. На эсминцах типа «Шеффилд» предусматривалось наличие двух специалистов по надводной и противолодочной борьбе (principal warfare officers, сокр. PWO) и двух офицеров противовоздушной обороны (anti-air warfare officers, сокр. AAWO), несших боевое дежурство посменно и попарно. Причем с учетом противовоздушной специализации означенных эсминцев, AAWO на них были лейтенант-коммандерами, а оба PWO – обычно просто лейтенантами, в то время как на противолодочных фрегатах – наоборот. Командование расчетом ЦКП возлагалось на старшего из офицеров управления оружием.
Вот как описывает работу центрального командного пункта адмирал Вудворд: «ЦКП современного корабля с людьми, сидящими за компьютерами и средствами управления, для постороннего является одним из самых странных мест на земле. Туда никогда не проникает солнечный свет. Там вообще почти ничего не светит, разве что любопытное сюрреалистическое янтарное свечение экранов, красные огоньки большого количества индикаторов и клавиатур и время от времени желтая подсветка информационных панелей. Помещение требует тишины и почтения, создавая атмосферу интенсивной сосредоточенности, подобную библиотечной. Каждый оператор подключен к определенной системе и имеет для связи наушники, наподобие тех, что носят пилоты гражданских авиакомпаний, с тонким современным микрофоном перед скрытыми под капюшоном губами. Тихое журчание их донесений идет, возможно, в штурманскую рубку или на другие посты корабля, или по радио на ЦКП других кораблей.
По внутренним линиям связи кэптен может подключиться к разговору офицера управления оружием с оператором гидроакустической станции или к оператору взаимного обмена информацией, ведущего разговор с оператором надводной обстановки, или с ракетно-артиллерийским постом, а возможно, к разговору старшины сигнальной вахты с молодым сигнальщиком на мостике. Он может слышать голос вахтенного офицера, громко оповещающего: „Самолет, левый борт, девяносто, неопознанный, низколетящий“. Жизнь в странном подпалубном мире ЦКП никогда не останавливается. Системы связи как „подземелье“ вавилонской башни – масса слов, наушников, микрофонов и странного жаргона. ЦКП – калейдоскоп светящейся информации, пальцев, бегающих по клавишам и кнопкам, „лунатиков“ в капюшонах, у которых не видно шевеления губ, но их бестелесные голоса никогда не смолкают».
Если боевой расчет ЦКП хорошо знает свое дело, то вмешательства командира в большинстве ситуаций не требуется – офицеры управления оружием наделены достаточными полномочиями, включая открытие огня и объявление боевой тревоги. В частности, при возникновении воздушной угрозы именно на офицера ПВО фактически целиком ложится руководство отражением атаки вражеской авиации.
Будучи атакован бомбардировщиками, корабль отражает налет зенитными огневыми средствами, главным же способом защиты от противокорабельных ракет являлась постановка пассивных помех. Для создания дезинформирующих ЛЦ предназначались выстреливаемые из 114-мм орудий артиллерийские снаряды пассивных помех (Chaff C в британской терминологии) и сбрасываемые с вертолетов заряды с дипольными отражателями (Chaff H). Однако в данном случае из-за невозможности заблаговременного дальнего обнаружения низколетящих самолетов-ракетоносцев ни то, ни другое не применялось. Все сводилось к постановке дезориентирующих ЛЦ посредством отстрела из пусковых установок «Корвус» турбореактивных снарядов пассивных помех (Chaff D) в непосредственной близости от корабля, тогда как сам он должен был совершить маневр уклонения от ракет, приведя их на правую раковину (сократив таким образом свою ЭПР), и развить большой ход. В поступившей из штаба TF 317 инструкции по противоракетной обороне подчеркивалось, что следует создавать ЛЦ до того, как головки самонаведения ПКР захватят цель, хотя данный тактический прием работал и для срыва автосопровождения цели после захвата объекта: заслонившее корабль от приближающихся ракет облако диполей образует вместе с ним единую протяженную цель, в геометрический центр которой наводятся ракеты; корабль между тем выходит из-под удара, смещаясь в периферийные области дипольного облака, а затем за его пределы.
В целом эффективность применения пассивных радиолокационных помех в значительной мере зависела от четкости действий расчета ЦКП: насколько своевременно будет обнаружена ракетная угроза и произведена постановка ЛЦ. Кэптен Ходдинотт, сидя посередине командного пункта в своем высоком кресле-вертушке, как и все, облаченный в белый огнезащитный капюшон и перчатки, держал ситуацию под контролем, но не вмешивался, полагаясь на мастерство офицера ПВО лейтенант-коммандера Николаса Хоукярда и его подчиненных. Было 10:56:30, когда оператор станции РТР старший матрос Роуз доложил:
– Радар «Агава»!
– Степень достоверности контакта? – уточнил Хоукярд.
– Уверен! – отозвался Роуз. – Фиксирую три прохода луча РЛС с последующим кратковременным захватом. Пеленг 245. Режим поиска.
И еще через несколько секунд:
– Радар прекратил работу!
Однако Хоукярд не замедлил оповестить по КВ и УКВ-радио штаб ПВО и другие корабли:
– Срочное сообщение! Я «Глазго», «Агава». Пеленг 245.
Вообще-то при обнаружении излучения РЛС «Агава» полагалось использовать кодовое слово «Кондор»57, но лейтенант-коммандер был так взбудоражен, что позабыл об этом. Затем он поправился:
– Я «Глазго». «Кондор», пеленг 245!
Это оповещение было принято на «Инвинсибле» в 10:58. Штаб ПВО ограничился коротким ответом: «Roger, out»58, за которым не последовало ни повышения уровня воздушной угрозы, ни кодового сигнала «Zippo 4», означающего неминуемость ракетной атаки59 и сопровождаемого постановкой кораблями дезинформирующих и отвлекающих ложных целей. Донесение «Глазго» посчитали за очередной ложный контакт, каких уже было три или четыре за утро. Перенапряжение первого боевого дня тяжело сказывалось. Тогда команда «Action stations»60 из-за угрозы «Экзосетов» звучала практически ежечасно и огромное количество снарядов пассивных помех было израсходовано впустую, а «Супер Этандары» на поле боя так и не появились. К 4 мая от всего этого успели изрядно устать. Попутно выяснилось, что из-за сходства излучений РЛС «Агава» с РЛС «Сирано» («Мираж III») и «Блю Фокс» («Си Харриер») операторы станций РТР часто путали их. Теперь в штабе ПВО относились к поступающим сообщениям об «Агаве», как к мальчику, который постоянно кричит «Волк!», и ситуация на «Инвинсибле» виделась совсем иначе, чем на ЦКП эсминца «Глазго».
В 10:58:06 прозвучал новый доклад Роуза:
– Радар «Агава» возобновил работу, пеленг 248!
А девять секунд спустя самолеты противника появились и на экране индикатора кругового обзора РЛС ОВЦ Тип 965R: две отметки, пеленг 240°, дистанция 40 морских миль. Контакт продлился лишь то короткое время, которое потребовалось аргентинцам для поиска и определения координат цели, пока они снова не уменьшили высоту полета.
– Это два «Супер Этандара». Наверняка только что сделали «горку». Возможно, готовятся произвести пуск ракет, – прокомментировал Хоукярд все так же молчаливо наблюдающему за его действиями кэптену Ходдинотту, а затем скомандовал по переговорному устройству:
– Офицер ПВО, вахтенному офицеру. Объявить боевую тревогу.
Пока лейтенант Дэвид Годард на ходовом мостике выполнял это приказание, наполнившее корабль гулом голосов и топотом матросских ботинок, Хоукярд отдал еще одно:
– Поставить пассивные помехи!61
Услышав приказ, чиф-петти-офицер Йэн Эймс на своем месте в другом конце ЦКП ударил кулаками по большим, чтобы ни при каких обстоятельствах невозможно было промахнуться, клавишам управления стрельбой ПУ «Корвус». Турбореактивные снаряды радиолокационных помех с глухим свистом ушли ввысь в разные стороны от корабля. Их разрывы вскоре образовали в воздухе облака из дипольных отражателей.
– «Агава» в режиме захвата.
Этот доклад оператора станции РТР в 13:58:48 означал, что ракеты скоро будут запущены и устремятся к кораблю. Чтобы избежать попаданий, «Глазго» следует укрываться среди окружавших его четырех облаков из ДРО, которые должны увести ракеты в сторону от него. Однако завеса дипольных отражателей смещалась по ветру, и было необходимо корректировать курс и скорость корабля, чтобы оставаться в ее пределах. Поэтому командир корабля скомандовал вахтенному офицеру:
– Лево на борт, курс двадцать пять. Удерживать скорость, равную скорости ветра.
Тем временем радар Тип 992Q, менее дальнодействующий, но значительно более хваткий, чем 965-й, засек приближавшиеся низколетящие самолеты. Оператор воздушной обстановки ст. матрос Невин торопливо стучал пальцами по клавиатуре, чтобы передать обстановку по обнаруженным воздушным целям в систему взаимного обмена информацией «Линк-10». Затем, увидев, что его сменщик ст. матрос Хьювит стоит рядом, готовый принять пост по боевому расписанию, он быстро уступил ему пульт и бегом бросился наверх по ступенькам трапа, чтобы помочь перезаряжать пусковую установку пассивных помех. Позднее он признается, что никогда в своей жизни не бегал так быстро.
Сам Хоукярд, пока все это делалось, попытался «достучаться» до штаба ПВО. К этому моменту радиолокационный пост четко отслеживал две воздушные цели. В 13:59:45 «Глазго» сообщил:
– Два низколетящих bogies – SW 25 миль, курс 70/80.
Ответная реакция была все такой же невозмутимой: «Roger, out». Переход на повышенный тон ничего не дал. На «Инвинсибле» желали более веских доказательств. Даже после попадания ракеты в «Шеффилд» там еще некоторое время будут не в состоянии осознать свершившегося факта, считая, что эсминец подвергся торпедной атаке из-под воды. Руководство действиями «Си Харриеров», осуществлявших боевое дежурство в воздухе, в тот день, согласно воспоминаниям коммандера Найджела «Шарки» Уорда, возглавлявшего 801-ю эскадрилью, тоже вызывало много вопросов. Впрочем, чудили 4 мая не только на «Инвинсибле». По приказу с «Гермеса» незадолго до начала аргентинской атаки одна из пар истребителей воздушного патруля была отослана на поиск надводных кораблей противника, из-за чего образовалась брешь в зоне патрулирования, за которой как раз находился эсминец «Шеффилд». Едва ли, конечно, «Си Харриеры» могли сорвать аргентинский ракетный удар, но это демонстрирует, какая неразбериха творилась наверху.
В 11:02 аргентинцы произвели пуск ракет, после чего их самолеты исчезли с экранов РЛС. Взамен на дисплее появились две быстро перемещающиеся крохотные отметки. Классификация контакта: противокорабельные ракеты, приближаются, пеленг 230, дистанция 12 миль62. В 11:02:07 «Глазго» послал в воздух новую партию ДРО. На ЦКП кэптен Ходдинотт, решив, наконец, вмешаться в руководство ПВО корабля, приказал стрелять ЗРК «Си Дарт», что вряд ли являлось осуществимым. Возможности РЛС Тип 909 системы управления ЗРК не позволяли захватывать столь малоразмерные и низколетящие цели. Хоукярд это понимал, но, вероятно, решил не расстраивать командира, и просто транслировал приказ чиф-петти-офицеру Эймсу, тем более что никакого другого серьезного зенитного вооружения эсминец все равно не имел. Поэтому расчет ЗРК делал все новые попытки, но тщетно. Сам же офицер ПВО связался по радио с «Инвинсиблом», чтобы удостовериться, что в секторе стрельбы «Глазго» нет своих самолетов, и попутно еще раз доложил о ракетной атаке. Но его донесения там уже перестали воспринимать всерьез, а позиция штаба ПВО оставалась непреклонной: они считали сообщение о ракетном ударе недостоверным. Общее оповещение об угрозе «Экзосетов» так и не было сделано. Так что операторы штаба ПВО, оставшиеся безвестными по принятой в Британии деликатной традиции не разглашать имена виноватых, по праву разделяют со старшими офицерами «Шеффилда» ответственность за его гибель.
«Это ракета!»
На кораблях TG 317.8 об угрозе «Экзосетов» хорошо знали и, по большей части, относились к ней со всей серьезностью, хотя, возможно, уже не столь трепетно, как в первый день боев. Однако командование эсминца «Шеффилд» имело свое мнение на этот счет. Кэптен Солт полагал, что первостепенную опасность представляют аргентинские субмарины. Он мыслил, как подобает бывшему подводнику. И к тому же откуда ему было знать, что одна из вражеских подлодок типа 209 не участвовала в военных действиях из-за технической неисправности, а вторую противник держал на периферийной позиции, подальше от районов действия британских кораблей? Офицер ПВО (AAWO) лейтенант-коммандер Николас Бато, со своей стороны, считал, что главная угроза исходит от аргентинских истребителей-бомбардировщиков, атакующих свободнопадающими бомбами, как это произошло 1 мая с кораблями группы «Глэморгана». Но что самое пагубное, оба в ответственный момент отсутствовали на центральном командном пункте. Старшим из находившихся там операторов был офицер управления оружием (PWO) лейтенант Грэм Толли, которому недоставало опыта и/или командирских качеств. Когда «Супер Этандары» появились на экране радара, он растерялся настолько, что даже позабыл объявить боевую тревогу. Расстановка основных лиц, ответственных за противовоздушную оборону эсминца в этот момент была следующей: командир корабля отдыхал у себя в каюте, офицер ПВО пил кофе в офицерской кают-компании, его помощник, старший матрос Бернс, отлучился в гальюн, а оператор воздушной обстановки, хотя и пребывал на командном пункте, но не за своим пультом. Таким образом, трое из восьми операторов противовоздушной секции отсутствовали на местах.