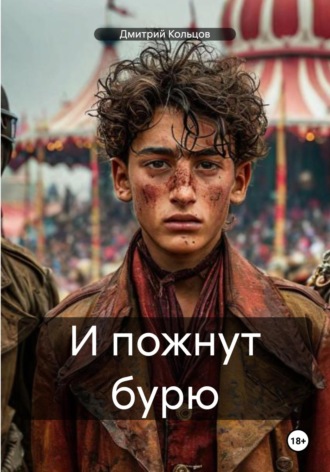
Полная версия
И пожнут бурю
Генерал-губернатор Алжира был в бешенстве, сравнимом с бешенством Господа на людей, строивших Вавилонскую башню. Он прекрасно понимал, что зажравшимся ленивым чинушам, желавшим лишь иметь хороший заработок и просторную двухэтажную квартиру в доме на улице Риволи, где по утрам приносили бы булочки с шоколадом и кофе с газетами, в которых писалось бы только о последствиях Всемирной выставки двухлетней давности, совершенно не было дела до интересов французских колониальных войск, и уж тем более их не заботило состояние алжирской флотилии и оранской эскадры. Но ему ничего не оставалось, кроме как оплатить строительство обычных парусников, безнадежно устаревших под натиском ревущей от неистового темпа паровой революции, единственным проблеском которой уже почти три десятка лет для оранской эскадры оставался «Сен-Жорж», спущенный на воду почти одновременно со знаменитым «Декартом»29, которого уже два года как не числилось в составе флота. А когда полномочия по обновлению и поддержанию целостности оранской эскадры получил майор Жёв, все позабыли о паровых судах, в геометрической прогрессии распространявшихся по всему миру, поскольку старик был человеком взглядов консервативных, и не понимал преимуществ паровой машины над тысячелетиями использовавшимися парусами. А объяснять ему этих преимуществ никто не хотел и боялся, так что все дружно ходили под парусами, принимая щедрую помощь великодушного ветра. Омар и тот вовсе никогда не видел паровой машины, и при рассказах о ней представлял мелких чертей, скачущих в колесе и своей магией разогревающих дьявольский механизм, а угли для них служить в таком случае должны были в качестве пищи. Но такая «отсталость» араба была вполне оправдана. И не было никаких потешаний в его сторону.
Когда Оскар Жёв вернулся в крепость, чтобы выспаться перед отплытием, ему не дала этого сделать одна тревожная мысль, засевшая в голове у него еще утром. С этой мыслью он решил посетить Омара, находившегося все так же, в комнате надзирателя тюрьмы. Спустившись в нечто среднее между подземельем и обычной высоты зданием, Жёв прошел мимо храпевших стражников так тихо, что те даже не шевельнулись. Бесшумно отворив тяжелую деревянную дверь комнаты надзирателя, майор вошел внутрь нее. Омар также не спал, он лежал с закрытыми глазами и очень громко дышал, будто представляя себе что-то очень тревожное, как мысль, задевшая Жёва. Разумеется, араб услышал, как в комнату кто-то вошел, но не подал этому виду. Майор присел на свободный стул, стоявший в метре от кровати, на которой расположился бен Али, и стал осматривать помещение. Не ослепнуть от ночной темноты старику помогал большой старый канделябр, наполненный свечами, не догоревшими еще наполовину даже, вероятно, потому, что зажжены были сравнительно недавно. Комната надзирателя гарнизонной тюрьмы представляла из себя, если выразиться совсем уж образно и грубо, камеру повышенной комфортности. Слишком немного удобств отличали ее от сырых подвальных помещений, в которых содержались преступники. Среди таких удобств, в первую очередь, выделялось большое окно, дающее возможность наполнить комнату теплым солнечным светом, а также достаточно мягкая кровать, с двумя перьевыми подушками, тонким одеялом и с тумбочкой подле, в отличие от больших деревянных досок с такими же «деревянными» подушками, повсеместно наставленных в камерах. Присутствовал в комнате и письменный стол, небольшой и трухлявый, но позволявший за ним есть и писать. На этом удобства заканчивались. Стены комнаты были лишь слабо побелены, о краске не могло идти и речи, тюрьма как никак. Осмотрев комнату, Жёв направил свой грозный, но очень уставший взгляд на Омара, лежавшего в кровати обутым, в своей легкой арабской одежде. Майору показалось странным, что Омар лежал на спине, заложив руки за голову, и при этом не двигаясь совершенно. Молча понаблюдав за ним пару минут, старик нарушил мрачную тишину, царившую здесь.
– Ты же не спишь, верно?
– Ты прав, – без признаков сонливости ответил араб. – Зачем пришел сюда? Да и в такой час?
– Меня одолела одна мысль, которой мне бы хотелось поделиться с тобой.
– Ну так делись, не медли, утром отплытие, сам знаешь.
– Верно…
Майор устало вздохнул и с минуту помолчал, обдумывая свой вопрос. Когда черная туча отплыла на некоторое расстояние от Луны, и одинокий сизый луч пробился сквозь маленькое окно, озарив лицо Омара, Жёв вдруг забыл (а может и нарочно передумал) о той мысли, что всего несколько минут назад не давала ему покоя и привела его сюда. Он решил задать совершенно другой вопрос:
– Скажи мне, Омар, ты испытываешь сейчас горечь?
От этого вопроса араб вскочил с кровати и обомлел. Уже сидя на ней, он с непонимающим взглядом уставился на майора, все так же устало глядевшего, но уже не на него, будто страшась прямого столкновения глаз, а на свечи, горевшие в канделябре.
– Что ты имеешь ввиду? Какую еще горечь?
– Самую обыкновенную человеческую горечь, Омар. За столько месяцев, недель и дней ты испытал много всего. Потерял брата, потерял свободу, чуть было не потерял жизнь. За это время ты хоть раз задавался вопросом, не горестно ли тебе?
– Зачем ты это спрашиваешь? Ты напился что ли? – Омар испытывал явное раздражение к докучавшему ему майору, но выгнать пока не смел. – Какой тебе интерес до того, что я чувствую?
– Я хочу понять, какая у тебя душа, Омар. По крайней мере, какой она теперь является… Я обучил тебя стольким языкам, наукам, искусствам, подарил кров, привил манеры и нормы, а ты меня предал! Ты вероломно воспользовался моим к тебе доверием, чтобы сохранить в тайне наглую диверсию брата-повстанца. Тебе едва удалось удержать его от осуществления массовой резни, а не подоспей я, то ты без колебаний сбежал бы с ним и выдал все секреты крепости. Как можно быть таким слепым и хитрым одновременно, Омар? Что ты за человек? Обладаешь ли ты хотя бы ростками совести или все годы лишь умело притворялся добропорядочным учеником, играл роль вставшего на путь эволюции дикаря, чтобы потом нанести удар в спину? Объясни, есть ли в тебе вообще душа?
Омар нашел в себе силы с отвращением проглотить весь шквал обвинений со стороны столь нежелательного сегодня собеседника и не броситься сейчас же на него с кулаками. Но кровь уже забурлила, мозг возбудился, а язык жаждал боя. Молниеносно встав напротив майора, бен Али начал ответную речь:
– Хм, я скажу. Начиная с того дня, когда я по твоей вине зарезал собственного брата, когда не сумел осмелиться на то, чтобы убить тебя и весь твой гарнизон, я пребываю в отчаянии. Я целыми сутками молюсь всемогущему Аллаху, чтобы он простил меня за бессмысленное братоубийство – за тягчайший грех! Я искренне мечтаю сбежать ото всего мира, скрыться в пустыне, жить бедуином, в молитве найдя себе смысл жить дальше. Но ты разрушил мечту. Ты продал меня какому-то дельцу из Марселя! Я каждый день, каждую минуту желаю твоей смерти, Оскар Жёв! Ты хочешь понять, какая у меня душа? Она уже вся черная от скорби и ненависти, она полна грехов, полна лжи, полна отчаяния и смерти! Но у меня душа хотя бы есть! А вот что касается тебя… Это у тебя ее нет! У тебя нет души! Вот поэтому ты так бессердечно отдаешь приказы о пытках и убийствах! Поэтому ты поощрал кровавую работу «охотников»! И я знаю, что ты не хочешь моей казни лишь потому, что тебя потом будет мучить жалкий остаток твой гнилой совести! И я был бы счастлив быть повешенным, потому что я бы встретился с братом и молил бы его о прощении, но ты не дал мне такой возможности, предпочтя продать в рабство! Какой же это благородный поступок?! Это самая настоящая, неприглядная жестокость! Я бы придушил тебя прямо сейчас, вот здесь, но боюсь, что не получу уже от этого удовольствия и ничего не добьюсь…
Жёв был в нескрываемом изумлении от слов Омара. Может, от старости, а может, от офицерской спеси он не видел собственной ошибки в произнесенных им словах. Более же он ничего сказать не мог, дожидаясь завершения речи Омара, которая резко оборвалась, словно гитарная струна, лишь для того, чтобы накопить заряд гортанной мощи и завершиться громовым криком, повергнув слушателя в яму унижения. Бен Али, с налитыми кровью глазами, стоял напротив майора и держал в руках канделябр, готовый применить его как оружие.
– Оставь меня, мерзкий двуличный старик, я не хочу загубить себе оставшиеся часы своей последней ночи в родном краю. Нам и так несколько дней в море плыть на одном корабле. Одного Иблиса мало, чтобы вечно тебя в Аду мучить! Ведь ты такой же демон, без сердца и совести! Убирайся в свое логово! Оставь меня одного!
Не приходя в себя от слов, будто ударивших обухом по голове, Жёв медленно встал со стула и, мельком посмотрев на Омара, пятясь, спешно покинул комнату. А Омар повертел канделябр в руке, что-то громко крикнул по-арабски и швырнул его в стену с такой силой, что звуки грохота оказались слышны во всех камерах и даже на улице. После этого он без сил упал на кровать и сразу же заснул, считая правильным то, что высказал майору.
Майор Жёв, покинув тюрьму, решил пройтись по гарнизону. Сон так и не пришел к нему, даже напротив, после исповеди Омара мелкие весточки сна окончательно покинули организм старика. Единственное, чего ему хотелось, так это избавиться поскорее от этого неблагодарного мальчишки, получившего жизнь и не желавшего хоть на минуту забыть свою дурную веру и радоваться каждому дню. Пребывая в легкой, если можно так выразиться, прострации от унижения, нанесенного арабом ему, благородному офицеру, майор старался все же отогнать мысли и желания раскроить бен Али череп за такое, пусть и непубличное, но все-таки болезненное оскорбление. Он сам того не заметил, как оказался около кузницы, в которой часами, а то и днями пропадал совсем недавно Омар. Жёва удивило, что начальник кузницы, старик Фуле, в такое позднее время все еще находился на месте, что-то читая под тусклым светом масляной лампы. Он не заметил, как майор подошел к своеобразному прилавку и стал рассматривать всякого рода ножи, кинжалы, шпаги, сабли, топорики и прочую военную атрибутику. На прилавке все эти разновидности холодного оружия лежали с двойной задачей: как декор, привлекающий внимание, а также как образец того, что каждый служащий гарнизона мог заказать у кузнеца за определенную плату. А что было делать, жалование не могло в полной мере покрыть всех расходов кузни и лично Фуле, поэтому он упросил Жёва позволить торговать своими изделиями и услугами. За это вояки прозвали Фуле жидом бескостным, но тот не стал обижаться, потому что давно потерял всякое желание испытывать какие-либо яркие эмоции, променяв разноцветные краски на серую шпаклевку.
Вначале у Жёва было сильное желание поговорить со старым кузнецом, однако спустя минуту, майор присмотрелся к глазам Фуле и заметил, что они закрыты. Поняв, что старик тихо дремлет, Жёв еще минут пять постоял у прилавка и удалился к себе, надеясь хоть там немного поспать.
Добравшись до кабинета так, чтобы его никто не услышал, майор, не снимая мундира и сапог, сел в кресло для гостей и стал думать. Не налив по обычаю себе коньяка и не закурив сигары. Стал думать. Думать о словах Омара, вырезавших на сердце Жёва большой рубец. Стал думать о предстоящей дороге в Марсель. Однако ничего путного в голову не приходило. Виски пульсировали с неистовой силой, не давая возможности напрячь мозги. В итоге так, с раскрытыми глазами, с пустым взглядом, с почти не соображающей головой, Жёв просидел еще около часа, совершенно не обращая внимания на то, что до подъема оставалось всего четыре часа.
Но все-таки что-то внутреннее убедило майора прикрыть глаза, и пожилой организм тихо уснул. Там же, в кресле для гостей.
Глава XI
Утро 13 декабря было очень ясным и теплым. Легкий бриз встречал моряков и солдат в порту, где уже был полностью нагружен «Сен-Жорж». Нагружали его провиантом на трое суток, а также углем для паровой машины. Мужики-кочегары тащили неподъемные мешки с черным топливом на своих задеревенелых плечах, доламывая последние здоровые позвонки, возмущаясь и кряхтя от усталости. Но никто не мыслил о возможности передохнуть, поставить мешок на землю и попросить у начальника смены хотя бы минуту передышки. Такой поступок сразу расценен был бы за нарушение рабочей дисциплины и саботаж. Начальник смены, само собой, не собирался давать никакой минутной передышки, иначе бы ему самому, выражаясь метафорично, открутили башку. Мужики тащили мешки с углем, чтобы выполнить часовую выработку и получить после этого целых семь франков на человека, на которые вполне можно было прожить две недели в Оране; разумеется, живя практически нищенской жизнью. Обычные мелкие винтики в огромном, никем не контролируемом механизме, с которым даже Господь не был в силах совладать, поскольку также был его частью. А чем важнее и больше становится винт, становясь сложной деталью, тем реже он обращает внимание на винтики, оставшиеся внизу этой иерархии. Так и здесь: начальнику смены было все равно на душевные и физические силы мужиков-кочегаров; капитану корабля было наплевать на мнение начальника смены и уж тем более на мнение упомянутых мужиков; ну а Жёв, вероятно, даже не засорял себе голову информацией о существовании каких-то разнорабочих, имеющих, с чего-то вдруг, свое личное мнение относительно условий труда и свои личные потребности, которые, оказывается, могут иногда преобладать над потребностями эксплуататоров. Чего уж говорить о генерал-губернаторе Алжира маршале Мак-Магоне, который едва знал Жёва в лицо, и так далее по лестнице. Жаловаться было бессмысленно и опасно, поэтому мужики без остановки, сконцентрировав всю силу в ногах и руках, шагали на корабль, чтобы успеть загрузить его в срок.
К девяти утра приготовления были закончены, и команда терпеливо ожидала прибытия майора Жёва и Омара. Они пока находились в крепости. Омар уже сидел в коляске и ждал отправления, а Жёв еще был в комендатуре – принимал рапорт майора Мирабаля.
– Если мы проследим весь путь наших разведчиков, то обнаружим, что очередной схрон клана бен Али действительно располагался в том месте, которое нам изначально указал Омар.
– Хорошо…
Слушать сухие речи офицера-докладчика, и уж тем более закостенелого кабинетного бюрократа Мирабаля, Жёву было всегда в тягость. Особенно неохотно слушал он его сегодня, поминутно жалея и мысленно причитая, что не ограничился письменным рапортом и позволил Мирабалю говорить.
– Что же касается организационно-бытовой части, то здесь необходимо отметить, что каждое ваше поркчение было исполнено. Поскольку, как вы сказали, в ваше отсутствие в город и гарнизон может нагрянуть инспекция из Алжира, на две недели прекращена работа всех заведений в пределах гарнизона, а военнослужащим запрещено без дозволения командиров его покидать. Также докладываю, что запасы питьевой воды должны в ближайшие двое суток быть пополнены. За неисполнение своих обязательств перед французской армией купец, что поставляет нам воду и иное продовольствие, будет лишен головы. Он пообещал управиться вовремя.
– Хорошо…
Мирабаль басил в размеренном темпе, однако из-за сильной тучности был вынужден сопровождать каждое преложение тяжелой одышкой. Оттого его речь теряла всякую серьезность и походила больше на выступление толстого повара перед посетителями его лавки. Важной особенностью данного доклада было и то обстоятельство, что Мирабаль рапортовал, обращаясь к начальнику, сидя в кресле для гостей и вальяжно расположившись в нем, словно покойный король Луи-Филипп30 перед очередным премьер-министром. Любого другого служащего за подобный формат официального отчета немедля бросили бы на губу, но Мирабаль пользовался своим положением и послаблениями, сделанными только для него Жёвом. Последний как-то отстраненно слушал, изредка реагируя на завершающие фразы безэмоциональным словом «хорошо», казалось, вовсе не вникая в суть рапорта. Он стоял перед большим зеркалом псише овальной формы, высотой около двух метров, и внимательно себя разглядывал, ища всевозможные изъяны в одежде или на лице, подкручивал накрахмаленные усы, перебирал цепи для часов, выбирая между легкой с мелкими звеньями и тяжелой с крупными, примеряя разные монокли и пенсне, думал над тем, надевать ли на мундир все награды, которых у него имелось полтора десятка, или как всегда ограничиться лишь Почетным легионом. В какой-то момент голос Мирабаля стал напоминать Жёву противное жужжание приставучей жирной мухи, от которой никак не получалось отмахнуться. Слушать его становилось труднее и труднее, отчасти также потому, что с каждой последующей подтемой рапорт становился все заумнее и научнее, представляя в основном бесконечный поток всяких цифр и чисел, чего солдатская голова старого майора не воспринимала здраво.
– Итак, Ваше превосходительство, покончив с технической частью рапорта, мы можем перейти к наиболее важной, на мой взгляд, – финансовой части. В течение последнего месяца гарнизонная часть израсходовала в общей сложности полтора…
– Ууух, Альбер, дорогой, прошу тебя, давай обойдемся без этих чисел, – выдавил Жёв с долей усталости, повернувшись к товарищу. – Я все равно в них мало что понимаю, в отличие от тебя. Выражаю тебе благодарность и принимаю твой рапорт. Отдаю тебе крепость и весь гарнизон с облегчением на душе. Теперь возьми приказ о расходовании бюджета на ближайшие две недели. Кстати, он тоже тобой составлен. Я лишь его подписал.
Мирабаль утробно расхохотался, придерживая себя за живот.
– Не принижайте собственных умственных способностей, Ваше превосходительство! Мне до вас, как до России пешком!
– Льстишь, подлец! – с ухмылкой рявкнул Жёв и снова повернулся лицом к зеркалу. – Иди с Богом, я сейчас поеду уже в порт.
– Привезите из Марселя для меня несколько свежих газет, – сказал Мирабаль, с неохотой подымаясь с кресла. – Новости из Европы читать куда интереснее местных заметок о разборках тунисских беев, к тому же пресса из метрополии к нам приходит ну очень уж редко. А как почитать чего-нибудь действительно интересного хочется, ммм!
– Ох, хорошо, хорошо! Иди уже!
Мирабаль довольно хрюкнул, отдал честь, пожал руку Жёву и выплыл из кабинета. Через пять секунд он влетел вновь, вспомнив о приказе, все еще лежавшем на столе. Под косым наблюдением Жёва Мирабаль быстро схватил документ, снова отдал честь и, чуть не споткнувшись о ножку кресла, окончательно покинул кабинет.
Жёв устало выгнул спину, прохрустев всеми стариковскими позвонками, потом нехотя зевнул и посмотрел на себя в зеркале. «Поверить не могу, как скоротечно время, – думал он, в очередной раз разглядывая борозды морщин и всматриваясь в седую растительность. – Казалось, совсем ненадвно я юным лейтенантом вышел из-за стен военной академии, но вот я уже седьмой десяток встретил – майор, комендант крепости, командир полка без полковничьих погон, смешно даже, но так вышло, что должности занимаю, положенные офицерам с более высокими чинами и званиями. Глядишь, так и помру майором. Но что такое звание – жалкое словечко да погоны покраше, только и всего. Гораздо приятнее осознавать, что ты имеешь уважение, влияние, авторитет, власть в конце концов! О да, слепящие грехи людей увлекают, терзают, мучают, но и доставляют чарующее удовольствие, которого никакая звездочка на погоне не подарит! Другое дело, когда страшный грех гордыни завладевает душой и разумом человека, и тогда эти самые звездочки становятся для него единственной желаемой целью, ради которой он готов без оглядки резать женщин и детей, жечь деревни и лгать начальству, как полковник Буффле, едва не ставший бригадным генералом! Я и сам поначалу – еще будучи выпускником академии – страстно желал добраться до вершины и получить из рук Его Величества маршальский жезл. Но оказавшись в сражениях с бешеными алжирскими фанатиками и гаитянскими неграми-рабами, получив несколько ранений, почувствовав смердящий запах крови, смешанный с едким запахом гари и пороха, увидев безразличие командиров с генеральскими погонами на жизни и судьбы калек, лишившихся конечностей или, что гораздо страшнее, потерявших рассудок, а также на семьи сотен и тысяч погибших, я опомнился. Я решил, что не хочу стать таким, как эти раздутые напыщенные генералы и маршалы. Лучше я до конца дней своих пробуду майором на должности коменданта крепости, чем возглавлю армию или военный округ и заражусь неизлечимой кровожадностью, поражающей всякого человека, добравшегося до вершины. Конечно, я уже болен, но пока только самой слабой формой этой чумы. И у меня еще есть шанс на спасение. Я хочу оставить после смерти не звездочки и погоны, а, прежде всего, духовное, качественное наследие. Однако все когда-нибудь задумываются о смерти. Можно уделять таким размышлениям минуту или час, день или всю жизнь. Если человек не думает о смерти, он либо по уши влюблен, либо уже мертв. О собственной, не чужой, смерти задумываются даже те генералы с маршалами, которым плевать на смерть в масштабе войны, но в масштабе личности, прежде всего своей, им, конечно, не все равно. Они-то как раз хотят с собой в гробы забрать жезлы, погоны и ордена, словно древнеегипетские цари, чьи гробницы отыскал великий Наполеон I. А я что? Что я то? Я буд счастлив умереть, зная, что сумел спасти хотя бы одну заблудшую душу… И…»
Жёв резко схватил лежавший на комоде револьвер и поднес к виску. Продолжая смотреть на себя в зеркале, он опустил палец на курок и приготовился нажать. Но какая-то сила удерживала его. И он неотрывно смотрел на свое лицо. Оно, казалось, приобрело вид фарфоровой маски и готово было в любой момент и потрескаться и разлететься на сотни мелких осколков, обнажив черную внутреннюю пустоту старого майора. Жёв пришел в себя лишь после того, как маленькая мошка села ему на нос, из-за чего тот стал жутко свербеть.
«Матерь Господня, что же я такое делаю?! – подумал Жёв, бросив револьвер обратно на комод и согнав мошку с носа. – Словно наваждение какое-то! Колдовство, не шутка ли. Не могу же я, французский офицер, воспитанный наполеоновским гвардейцем, взять и пустить себе пулю в висок! Это же безумие! – Он тихо рассмеялся. – А как же Омар? Он нуждается во мне. Да, осталось совсем немного нам знать друг друга, однако эти дни должны определить его судьбу. Все, что я слышал о его покупателе, Пьере Сеньере, совершенно ни о чем мне не говорит. Лассе утверждает, что этот человек – настоящая легенда современной Европы. Но мне это не нравится; я бы предпочел общаться не с легендами, а с обычными, настоящими людьми, потому как в легендах сложно разобрать, что правда, а что – вымысел. Да и род деятельности его поистине смешон! Так или иначе, остается надеяться, что месье Сеньер – порядочный и справедливый человек, как о нем и говорят, который сможет дать Омару новый дом и избавить от тяжелого груза прошлой жизни».
Закончив мысленно философствовать, Жёв отошел от зеркала и, не изменяя своей привычке, плеснул коньяка в стакан и залпом его осушил, после чего кратко прочитал молитву. Затем, кинув беглый взгляд на револьвер, он помедлил пару секунд и все же взял его и медленно покинул кабинет.
Что касается самого Омара, то его уже везли в порт. Согласно приказу Жёва, араба должны были привезти первым. Бен Али и сам был не против этого; лишний раз встречаться с майором ему не хотелось, а несколько минут движения дали возможность поразмыслить обо всем, что попадалось на глаза, отвлекаясь от дурных мыслей. О будущем своем ему еще представится шанс подумать, но вот очертания родного Орана он видел в последний раз. В последний раз видел городскую мечеть, в которой не успел совершить прощальный намаз. В последний раз окинул взглядом крепость Санта-Крус, в которой прожил больше пяти лет. Что ждало его впереди – за «Сен-Жоржем», за глубокой синевой Средиземного моря, за Марселем, за его покупателем – он не знал и даже не размышлял всерьез. Вся эта маета ему надоела, однако он чувствовал горечь от расставания с Алжиром и Африкой, не надеясь даже вернуться в пустынный край снова.
Повозка с Омаром проехала через весь город, демонстрируя жителям Орана пленника майора Жёва. Весть о том, что Омар будет продан как настоящий раб, уже разнеслась по всем кварталам и каждый себе стал представлять цену, за которую будет отдан в новые руки непокорный араб, почти сумевший перевоплотиться во француза из южных регионов.
До порта доехали крайне быстро. Встречал своеобразного пленника целый конвой из солдат, будущих также сопровождать его и во время плавания через Средиземноморье. Ни солдат, ни Омара этот факт не устраивал, однако против приказа майора одни не имели права пойти, а другой просто смирился. Однако Омар, как он совершенно не ожидал, не был закован в цепи, а просто окружен толпой вояк с ружьями. Поэтому ему немного полегчало. Пройдя на борт, араб сразу остановил свой взгляд на большом колоколе, который обычно был на каждом паруснике. Восемь ударов уже давно было отбито, что означало начало новой смены, готовой к приказам капитана и Жёва. Ничего с виду необычного в этом большом колоколе не было, но Омару было неприятно осознавать, что каждый раз, когда будет звучать рында – последнему отзвуку свободы окончательно придет конец. Когда Омару приказали ступать в свою каюту, он решил не задерживаться и сразу прошел за матросом, предложившим указать путь. Каюта Омара представляла из себя нечто похожее на кладовку, но чуть больше, с маленьким окошком, а также с постоянной охраной снаружи. Очевидно, что не огурцы с мукой их приставили охранять. Те немногие вещи, что ему разрешили взять с собой, бен Али тщательно перепроверил на предмет пропажи и, убедившись, что все цело и на месте, решил прилечь на широкую деревянную доску, приделанную к стенке каюты и выполнявшую роль койки. Наиболее важным багажом являлись две шпаги, выкованные им для исполнения трюков с глотанием длинных клинков. Омар держал их в особом футляре, в котором также спрятал несколько ножей и кинжалов. Ключ от футляра он носил на шее, дабы не потерять. Тупоголовые конвоиры и не подумали досмотреть футляр, испугавшись неадекватной реакции Омара. Читатель, вероятно, удивится, что бен Али не воспользовался взятым в качестве багажа оружием для того, чтобы взять кого-нибудь (да того же Жёва или конвоира) в заложники и сбежать восвояси. Но он не мог воспользоваться. Не из нежелания, но из принципа. Из-за стойкого убеждения, что применив ножи и шпаги для этой цели, он уподобится своему брату-фанатику и уничтожит все то, что ему годами привал Жёв с другими обитателями гарнизона, и что ему самому стало нравиться. Снова стать бездушным зверем, прикрывающимся идеалами Сунны, он боялся, поэтому и не стал больше противиться течению судьбы. По крайней мере, до того момента, как окажется в руках таинственного месье Сеньера.



