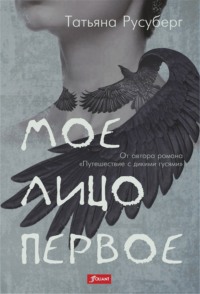Полная версия
Возраст гусеницы
И вот теперь это явление Хромосомы народу в полпервого ночи.
– Ах, птенчик, – Руфь заломила руки, всхлипнула жалобно, – это я тебя о самочувствии должна спрашивать, а не ты меня, дуру старую. – И она разразилась слезами.
Я настолько поразился такой самокритике, что сел в кровати, позабыв, в чем лежу.
– Да не убивайтесь вы так. Со мной все нормально.
– Нормально? – прорыдала Руфь, тыкая дрожащим пальцем в мою пушисто-голубую грудь. – Нормально?! Это я во всем виновата, я! Давно надо было тебе обо всем рассказать, но я не могла. Я же обещала ей… О господи, несчастная Тильда! – Она спрятала лицо в концы шали, но крупные мутноватые капли продолжали течь по запястьям и падать на одеяло.
При виде женских слез я всегда теряюсь. А тут и вовсе впал в ступор. С одной стороны, жутко хотелось, чтобы тетка выложила все, что знает; а с другой – ну не сволочь ли я, пожилую женщину так доводить? Да еще без одной хромосомы…
– Может, вам водички? – Я свесил одну ногу с кровати, намереваясь сбежать прежде, чем меня совсем затопит.
– Не надо, – простонала Хромосома и ухватила меня за запястье. – Ты должен знать… Мне нужно облегчить душу, пока не поздно. Твоя мама запретила мне, взяла с меня слово, но я чувствую, что лучше его нарушить, чем смотреть, как ты мучаешься. Я ведь обещала Тильде позаботиться о тебе и не прощу себе, если что-то с тобой случится.
Я повернулся к ней, с надеждой и страхом уставясь на дрожащие вялые губы – будто это был вход в пещеру с сокровищами… и драконом. Руфь с усилием сделала глубокий вдох и утерла щеки краем шали.
– Прежде чем я расскажу тебе то малое, что знаю, я хочу, чтобы ты крепко запомнил: все, что делала твоя мама, она делала из любви к тебе и ради твоего же блага. Она просто хотела защитить тебя, уберечь, дать тебе счастливое детство и все те возможности, которые открываются перед нами в юности. Когда она узнала, что смертельно больна, то поклялась, что не оставит тебя, пока тебе не исполнится восемнадцать. Мысль о том, что ты можешь попасть в детский дом или приемную семью, была для нее непереносимой. Порой мне казалось, что только этот страх и держал ее на плаву, помогал в борьбе с раком, и в итоге – Тильда победила. Ты знал, что, когда у нее нашли метастазы в желудке и печени, врачи дали ей максимум месяц? А она протянула четыре, Ноа. Почти пять! И все ради тебя. Помни это, прошу тебя, и не осуждай ее.
– Я и не думал… – прохрипел я, и голос сорвался. Горло перехватило сухой судорогой. Так бывает, когда чувствуешь себя последней сволочью. Я-то этот самый восемнадцатый день рождения провел не с ней. Не с единственным человеком, для которого значил все, а с кучкой безмозглых придурков, которым я интересен только как мишень для буллинга.
Руфь помолчала, словно собираясь с силами, а потом продолжила.
– Боюсь, на самом деле, я знаю очень мало. Мы с твоей мамой были близкими подругами, но она не доверяла до конца никому, даже мне. Думаю, в ее прошлом случилось что-то настолько ужасное, что она полностью утратила веру в людей. С другой стороны, это ужасное преследовало ее, терзало ее душу, и, как она ни пыталась оставить прошлое позади и забыть, временами становилось невозможно держать все в себе. Тогда она рассказывала мне кое-что – обрывками, клочками, так что полную картину составить не удалось, но я получила некое представление… или скорее смогла почувствовать, каково ей было. Ты не единственный ребенок Тильды. У нее есть еще двое – твои родные брат и сестра. Да, ты правильно понял. Я говорю о них в настоящем времени, потому что, насколько знаю, они живы.
– Живы?! – Я вцепился в дряблую руку Руфи, как в поручень во время качки. – Но где они? Как их зовут? Они знают, что я… кто я… А мой отец? Они живут с ним?
Руфь накрыла мою ладонь своей, мягкой и дрожащей, покачала головой.
– Сколько вопросов, птенчик. И как бы я хотела дать ответы на них все. Но я знаю только, что брату твоему сейчас около двадцати двух, его зовут Мартин. Сестра, Лаура, на пару лет старше. Кажется, у нее все хорошо. Замужем, недавно родился ребенок. Она как-то пыталась разыскать мать, но когда Тильда об этом узнала, то ушла с радаров. Она избегала любых контактов с детьми.
– Но почему?! – Я стиснул ладонь Руфи, чувствуя, как ускользает из-под ног знакомая почва и я ступаю на что-то темное и топкое, что-то, что может затянуть меня и поглотить с головой, как бездонное болото. – Они же тоже ее родные дети. Сейчас они взрослые, но когда… Когда она оставила их, они же были еще… – я пытался мысленно подсчитать возраст в уме, но цифры путались, превращались в бессмысленные арабские символы, и я сдался, – маленькими.
– Не знаю точно, что там случилось, – покачала головой Руфь, – но, по словам Тильды, эти двое совершили что-то страшное. Настолько непоправимое, что она так и не смогла их простить. Поэтому и отказалась от них и от общения с ними.
У меня в голове все шло кругом. Я судорожно напрягал фантазию, но все равно не мог себе представить, чего такого могли натворить дети, чтобы их бросила родная мать, причем бесповоротно и навсегда. Это же должны быть не дети, а монстры какие-то или антихристы, как в ужастике «Омен».
– А что отец? Он тоже от них отказался? – с дрожью в голосе спросил я.
– О нем твоя мама вообще отказывалась говорить, – прошептала с присвистом Руфь. – Я даже имени его никогда не слышала. Знаю только, что Мартин и Лаура воспитывались в приемной семье. Вот и все.
– Все? – Я замер с раскрытым ртом. Потом наконец подобрал челюсть и выпалил. – Как все?!
– Вот так. – Хромосома трубно сморкнулась в уже изрядно подмоченную шаль. – Я же сказала, твоя мама была очень скрытной. Но я уверена, она чего-то сильно боялась. Потому и сделала все, чтобы вас было очень трудно найти. Поселилась на острове с паромным сообщением, сменила имя, сделала тайными адрес и телефон, не пользовалась соцсетями сама, да и тебе не позволяла…
– Стоп-стоп-стоп! – Я не поспевал за обрушившимся на меня потоком совершенно невероятной информации. – Что значит «сменила имя»?
Руфь который уже раз тяжело вздохнула и обратила на меня полный жалости взгляд:
– Птенчик, Крау[12]– это не ваша настоящая фамилия. Думаю, Тильда ее просто выдумала.
– Но… но… – Я потрясенно хлопал на тетку глазами. – А какая же фамилия настоящая?
– Этого я не знаю. – Руфь сокрушенно пожала плечами. – Твоя мама просто упомянула как-то, что сменила ее, чтобы скрыть свою личность.
Я вцепился руками в волосы и скрючился на кровати.
– Как же я тогда их разыщу? Мою семью… Если даже фамилии не знаю. Может… – Я вскинул голову и с надеждой уставился на Руфь. – Может, вы помните адрес? Ну, где мы с мамой жили до переезда на Фанё или где живет та приемная семья… Хоть что-нибудь?
Хромосома привычно уже потрясла щеками:
– Нет, птенчик, не знаю я адреса. Помню, Тильда упоминала, что с севера приехала, да и говор у нее северный был поначалу-то. Но, может, это и хорошо?
Я непонимающе на нее выпучился: что же тут хорошего?
– Сам посуди, – продолжала тетка. – Была ведь причина, почему мама твоя пряталась тут, на острове, и тебя прятала. Тильда никогда не была ни глупой, ни слабой, ведь так? Ты свою маму знаешь. И если помнишь, она хотела, чтобы все оставалось, как есть. Даже клятву с тебя взяла, что ты не покинешь дом, не уедешь с острова. Даже после смерти она пыталась тебя защитить. Так неужели ты теперь наплюешь на все ее усилия? – Ее красные, воспаленные от слез глаза нашли мои, губы горько скривились. – И ради чего? Ты уверен, что, если все узнаешь, будешь счастливее? Вдруг это принесет тебе только горе, как принесло Тильде? Надломит тебя, вывернет наизнанку, уничтожит?
Она немного помолчала, словно давая переварить ее слова. Я сидел совершенно оглушенный, едва отдавая себе отчет о том, где я или сколько сейчас времени. Мысли ворочались в голове тяжело, как каменные жернова на заржавевшей оси.
– Так не лучше ли оставить все как есть? – спросила Руфь тихо. – У тебя есть дом. Учеба. Друзья. Будущее. Есть я, в конце концов. Теперь ты знаешь правду. Просто найди силы отпустить ее.
Она уже вышла из комнаты, пожелав мне спокойной ночи, а я все сидел на кровати, теребя кончик пушистого пояса от халата. Уже не Ноа Крау. Даже не Кау. Неизвестно кто.
8
«Меня зовут Ноа, – вывел я пальцем на запотевшем зеркале в ванной. – Месяц назад мне исполнилось восемнадцать. Неделю назад умерла моя мать. Вчера я узнал, что меня не существует».
Не знаю, для чего я это написал и кому предназначалось послание. Вначале я даже не был уверен, мое ли это настоящее имя – Ноа. Может, мама просто придумала его, как и нашу фамилию. Выбрала потому, что ей понравилось, как оно звучит. Н-о-а. Но потом я вспомнил про плюшевого медведя. Он был реальный. Невыдуманный. Он говорил мое имя, а мама хотела его сжечь. Значит, и имя тоже было настоящим. Теперь оно стало единственным, что у меня осталось от старого меня. Н-о-а. Имя человека, который когда-то построил Ковчег и спас свою семью от потопа, а тем самым и весь род человеческий. Какая ирония. Вот я, его тезка, стою голый в ванной, вожу пальцем по зеркалу и понимаю, что, приди потоп, мне некого будет спасать, кроме себя самого. И я даже не уверен, стоит ли париться.
Одним движением я стер написанное и уставился на свое отражение в зеркале. Если мои родные брат и сестра – монстры, от которых надо бежать на край света, то кто тогда я? Ведь в моих жилах течет та же кровь. Почему мама не боялась, что зло, которое было в них, пробудится во мне? Может, оно просто спит внутри, вот тут, за клеткой выпирающих под кожей ребер, и ждет своего часа, чтобы вырваться наружу? Стать моим языком, моими глазами, моими руками. Уничтожать взглядом, словом, кулаками, ножом, молотком, пулей…
Что, если они убили кого-то? Лаура и Мартин. Сколько мне было, когда мы приехали на Фанё? Я помню, как пошел здесь в школу. В нулевой класс. А что до этого?
Я прижался пылающим лбом к прохладному зеркалу. Не помню. Ни хрена я не помню. Ну, допустим, мы переехали, когда мне было лет пять-шесть. Мартину тогда не могло быть больше десяти, а Лауре – двенадцати. Способны ли дети в таком возрасте на убийство? Хм, интернет говорит, что да. Я проверил. Сидел на физике и гуглил «дети-убийцы». Докатился. Особенно тщательно искал результаты по Дании. И просто офигел.
В нашей маленькой стране ежегодно примерно два убийства совершаются несовершеннолетними. За последние пятьдесят три года двадцать пять убийств. В одиннадцати случаях жертвами тоже были дети. В остальных – родители, братья, знакомые или совсем незнакомые люди. Большинство преступлений совершили мальчики. Жаль, но, кроме статистики и очень кратких описаний, никакой конкретной информации по убийствам не было, не говоря уж об именах преступников или потерпевших.
Капец. Мне просто в голову не приходило, из-за чего еще мама могла отказаться от брата и сестры. И бояться их. Даже спустя столько лет.
С другой стороны, Руфь ведь сказала, что Лаура и Мартин воспитывались в приемной семье. Разве их бы отдали в семью, если бы они грохнули кого-то? Конечно, за решетку их не могли посадить по малолетству, но убийство – это ведь не кража конфет из магазина. Есть же какие-то заведения для малолетних правонарушителей, особенно социально опасных. Нет, тут что-то не то. Лаура эта вроде живет нормальной жизнью: вышла замуж, родила ребенка. Разве она могла бы, если бы была убийцей? Хотя что за бред! Да у многих серийных маньяков были семьи, дети, работа. К тому же случилось все уже больше двенадцати лет назад – что бы там ни произошло.
Я отлепил лоб от зеркала и снова вперился взглядом в свое отражение. Капли конденсата стекали по нему, будто зеркальный я плакал, хотя мои глаза оставались сухими.
– Кто ты? – почти беззвучно произнес я.
Губы отражения повторили мой вопрос.
Возможно, где-то глубоко внутри я всегда это чувствовал. Пустоту. Я пытался заполнить ее чем попало, тупо копируя других. Привычки, модные словечки, увлечения, шмотки, цвет волос, фильмы, шоу по телику, комиксы – всю ту фигню, которую выносил на мой берег информационный поток. Я напоминал прозрачный елочный шарик с блестящей мишурой внутри.
Вытащи ее, и что останется? Пустота. Воздух в пластмассовой оболочке. Пуф-ф…
Наверное, окружающие это чувствовали. Поэтому все мои попытки соответствовать, не отставать, походить на других, быть, как все, были полным провалом. Меня отторгали, как ненужную в слаженно работающем механизме деталь. Я думал, это из-за мамы и ее воспитания. Из-за того, что у меня нет смартфона и аккаунта в «Снапчате» или «ТикТоке». Из-за того, что не хожу в пятничный бар [13]и на тусы с выпивкой. Из-за того, что живу на острове. Но все было гораздо сложнее.
Я оказался фальшивкой. Подменышем. Големом, слепленным из лжи – без прошлого, без истории, без собственного «я».
Лицо в зеркале было краденым. Моя жизнь шла взаймы, и казалось, вот-вот кто-то подойдет сзади, хлопнет тяжело по плечу и потребует отдать должок. Проблема была в том, что я не помнил своего преступления.
– Кто ты?! – заорал я, и отражение скорчило гримасу, зашлось в беззвучном смехе. Кто из нас теперь был копией?
Я размахнулся и со всей дури врезал по наглой хохочущей роже кулаком. Зеркало треснуло с глухим звуком. В раковину посыпались осколки, закапала темная кровь, множась в отражениях. Я вытащил из кожи между костяшками острый кусочек стекла. Поднял взгляд на зеркало. Вот теперь я выглядел правильно. Расколотый на фрагменты. Искривленный и искаженный. С черной дырой в центре. Как подобранный кем-то камешек – куриный бог.
9
Я на автомате ходил на занятия. Так было проще. Лишь бы Шеф Клаус от меня отстал. Один раз меня вызвали на беседу к Марианне, консультанту по образованию, – как и обещал коп.

На ковер к ней попадали отпетые прогульщики и обладатели длинных хвостов. Как выяснилось, я был кандидатом сразу в обе категории.
– Я, конечно, понимаю… – Марианна сверилась с лежащими перед ней бумагами, – Ноа, у тебя сложная семейная ситуация. – Она повела длинным и тонким, как у муравьеда, носом и сложила пальцы домиком, так что ярко-алые ногти стукнули друг о друга. – Но нельзя же на себе крест ставить. Нужно как-то собраться. Ты ведь в университет собираешься, а с такой посещаемостью – только в сантехники. Да еще полиция тобой интересуется… – Ее взгляд скользнул по моим залепленным пластырем костяшкам.
– У меня ее нет. – Я смотрел Марианне прямо в ее голубые кукольные глаза с неестественно черными ресницами, и мне было настолько плевать на ее нотации, что хотелось ржать в голос. Но я сдерживался.
– Чего нет? – растерялась Волчица.
– Семейной ситуации.
Она замерла на мгновение, отвела взгляд. Потом отпила воды из стоящего перед нею стакана, откашлялась.
– К-хм, ну да. Мы тебе, конечно, поможем, поддержим. Можем ментора к тебе прикрепить. А еще…
– Нет, спасибо. – Я продолжал сверлить ее взглядом. – Сам справлюсь.
Волчица неуютно поежилась, опустила глаза в свои бумажки. Алые ногти выбили по ним тревожную дробь.
– А вообще ты подумай. Может, тебе академотпуск взять? На время. В себя прийти. Отдохнуть. Скажем, к психологу походить? – Она вскинула на меня свои целлулоидные гляделки, ожидая ответа.
Я почувствовал, как на лицо выползает улыбка, такая же кривая, как разбитое зеркало.
– Вы считаете, мне нужен психолог?
Марианна вздохнула, нахмурила выщипанные брови.
– Я считаю, ты в кризисе. С которым тебе может быть очень сложно, как ты выразился, справиться самому. И то, что ты отказываешься от помощи, только это подтверждает.
Моя улыбка потухла. Я щелкнул суставами пальцев на неповрежденной руке. Дурацкая привычка – часто делаю так, когда нервничаю.
– Я больше не буду пропускать занятия. И долги закрою. Дайте мне месяц, и сами увидите.
– Ну хорошо. – Волчица пометила что-то у себя в бумагах. – Встретимся через месяц. Но если тебе будет трудно…
– Знаю, знаю. – Я уже поднялся со стула. – Обязательно обращусь к вам. Всего доброго.
Мама всегда говорила: «Вежливость ничего не стоит, но дорого ценится». Пока ты вежлив со взрослыми, ты не опасен. Так они считают. Удобное заблуждение.
Со сверстниками все по-другому. Тут вежливость не поможет, совсем наоборот. Хотел бы я уметь крыть матом и красиво посылать… ну, хотя бы в лес ежиков пасти. Но этим искусством я никогда не владел, а теперь и учиться поздновато.
К счастью, одноклассники держались от меня на расстоянии. Будто чуяли тонкий душок беды, который исходил от меня, словно запах гари от остывшей трубы крематория. Мамина смерть и несчастье словно отметили меня, заклеймили, выстроили вокруг незримую стену, которую я таскал на себе, как собака – медицинский воротник. И надо сказать, это меня вполне устраивало.
Все проблемы и повседневные заботы сверстников стали казаться настолько мелкими и незначительными, насколько еще совсем недавно могли заполнить мои собственные мысли несданный зачет, плохо написанная контрольная или улыбка хорошенькой соседки по парте. Какое все это вообще имеет значение, если я завтра тоже могу умереть, исчезнуть во тьме, оставив после себя нелепую кучку вещей и не зная даже, кто я, зачем живу и на что способен.
Я призраком ходил по коридорам гимназии, сидел в аудиториях, делая вид, что слушаю объяснения преподавателей, что-то записывал, что-то решал, что-то сдавал. К счастью, меня нечасто спрашивали – видимо, преподам сообщили о моей «семейной ситуации», как это обтекаемо сформулировала Волчица, и ко мне относились, как к коробке из магазина электроники с надписью «не кантовать».
Возможно, так продолжалось бы еще долго, если бы не Черепашка.

Случилось это дней через пять после того, как я сжег мамины вещи, а заодно и сам выгорел изнутри. Я стоял в коридоре у окна, где потише, и честно пытался подготовиться к тесту по математике. Отвлекли меня голоса. Вернее, басок Бенца, который становился все громче и громче.
Мерин явно докапывался до Черепашки, давя на бедного Адама своими метром девяносто и хлещущим через край тестостероном. Не то чтобы я прислушивался, но эти двое мне мешали.
– Я правда не успею, Мэс, – лепетал, пятясь, Черепашка. – Мы завтра всей семьей едем в Обенро, на похороны. Будем там все выходные. А сдавать надо уже в понедельник…
– А я те за чё плачу, одноклеточное?! – Бенц сгреб Адама за лямки рюкзака на груди и дернул вверх так, что бедняге пришлось встать на цыпочки, чтобы не потерять контакт с полом. – Да мне пошрать, швадьба там у тебя или поминки. В вошкрешенье вечером шочинение должно лежать у меня в почте, понял?! И ешли я получу за него ниже дешятки… – Мэс сложил руку в кулак и поднес его так близко к носу Черепашки, что у того глаза смешно сползлись к переносице.
– Да не нужны мне… твои деньги… – выдавил, бледнея от собственной смелости, Адам. Сунул руку в карман и выронил на пол смятые купюры. – У меня бабушка умерла. – Голос у него дрогнул. – Я просто не смогу…
– Не болтай ерундой. Шможешь, куда денешься! – Бенц тряхнул его. Я услышал, как у бедняги зубы клацнули. – А то шам в гроб ляжешь, вшлед за бабкой швоей долбаной. А теперь давай, бабло подобрал. – Мэс оттолкнул Черепашку, и тот, вскрикнув, растянулся на полу.
Грохнулся он неудачно – навзничь, прямо на свой огромный рюкзак. Не знаю, чего парень туда набил, но явно что-то твердое и тяжелое. Лицо Адама исказила гримаса боли, дыхание перехватило. Он сучил руками и ногами, как перевернутый на спину жук, но не мог сдвинуться с места. А этот козел Мэс просто стоял над ним и ржал селезнем.
– Эй, Бенц!
Это кто сказал? Черт, кажется, я.
Мэс повернулся ко мне, все еще покрякивая. Я доходил ему макушкой примерно до подбородка, но вдруг совершенно отстраненно понял, что совсем его не боюсь. Да и что со мной могло случиться? Разве можно разбить пустоту?
– Давай, подобрал свой мусор.
– Чё? – Глаза Бенца стали большими и круглыми, как у собак в сказке про огниво.
– Насорил тут. Подбери, говорю, и вали.
Мэс захлопнул пасть и сделал шаг ко мне, сжимая кулаки.
– Ты чёт ваще оборзел, Крау-рова. Хочешь, чтобы я тебе борзометр открутил? Не думай, что тебе шнова удаштшя за мамочку швою шпрятаться!
– А ты, видать, хочешь, чтобы Марианна узнала, что у тебя дензнаки вместо мозгов и что все твои высокие оценки куплены? – Я с ледяным спокойствием кивнул на валяющиеся по полу купюры. Какое, оказывается, преимущество быть пустым, как выжженный молнией ствол дерева.
– И кто же ей шкажет? – прошипел Бенц, сощурившись. Но я уже заметил, что его уверенность в себе пошатнулась.
Черепашка пялился на нас обоих с пола, разинув рот и хлопая своими пушистыми, похожими на крылья бабочки ресницами.
– Я скажу, – холодно бросил я. – И вот он, – я повел подбородком в сторону Адама.
Мэс снова заржал, качая головой, вот только кряканье его звучало натянуто.
– Этот шлизняк? – Он пнул Черепашку по ноге. – Да он шкажет то, что я прикажу. А ты…
– А я… – Я шагнул к Бенцу, сократив расстояние между нами до какого-то десятка сантиметров, и улыбнулся. Я, правда, и сам не знаю, как эта улыбочка, та самая, из зеркала, выползла на лицо. Я больше-то ничего и не сказал, и не сделал, только Мэс вдруг отвел глаза, пробормотал что-то про психов обдолбанных и, сунув в карман деньги с пола, зашагал прочь по коридору.
С тенью разочарования я смотрел ему вслед, когда рядом раздался голос Черепашки:
– Слышь, Ноа… Ты ведь Ноа, да? А ты правда собираешься Волчице стукнуть?
Я обернулся и с недоумением уставился на поднявшегося с пола Адама.
– А ты правда собираешься и дальше за дебила этого сочинения писать?
Черепашка сгорбился еще больше, покраснел, а потом выдавил, уставившись в пол:
– Он мне пятьсот крон за каждое платит. Это мне надо шесть часов на кассе в «Нетто» корячиться, чтобы столько же заработать.
Я смерил взглядом его будто еще уменьшившуюся от стыда фигурку и вдруг понял: не мне его судить. Кто я такой? Сгоревшее имя, пепел на ветру, сегодня здесь, а завтра…
Адам поднял на меня озадаченный взгляд, когда я похлопал его по плечу, молча собрал свои вещи с подоконника и свалил.
10
Во мне начало прорастать что-то. Может, из-за той стычки с Бенцем. Может, из-за участившихся кошмаров, которые будто пытались донести до меня какое-то послание, прорвать поверхностное натяжение сознания и вынырнуть из ночной глубины на свет. Может, из-за слов, которые я прочел в маминой книге. Той самой, про время и колесо. На одной из ее страниц мама отчеркнула вот что.
«Любой путь – лишь один из миллиона возможных путей. Поэтому воин всегда должен помнить, что путь – это только путь; если он чувствует, что это ему не по душе, он должен оставить его любой ценой».
И еще, чуть дальше: «Все пути одинаковы: они ведут в никуда. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь; если нет, то от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого – нет. Один путь делает путешествие по нему радостным: сколько ни странствуешь – ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, другой – уничтожает тебя».
Ведь именно так я и чувствовал себя – застрявшим на пути в никуда, который медленно, но верно меня уничтожал. Книга учила тому, что в любой момент человек может все изменить: отказаться от чего-то, чтобы обрести что-то новое. Мое слепое, как новорожденный котенок, сердце начинало в потемках нащупывать новый путь, и все во мне замирало в ужасе от того, что я еще не видел, но предчувствовал. Все во мне кричало: «Остановись! Не делай этого!» Кричало маминым голосом, так что мне хотелось зажать уши, зажмуриться и раскачиваться из стороны в сторону, пока все не утихнет.
Но стремление внутри росло, пробивалось острой зеленой головкой через камень страха в груди. Не хватало только последнего толчка, чтобы нарушить равновесие.
Это произошло, когда я сидел на датском. Стилистический анализ художественного текста на кого угодно нагонит тоску зеленую, и половина класса либо клевала носом, либо тупо залипала в телефонах. Мне в мобильнике ловить было нечего, так что я пялился в окно. Оно выходило на футбольное поле, оккупированное на сей раз не жертвами физры, а чайками и воронами.
С утра как раз поднялся ветер, на море штормило, а потому водоплавающие птицы переместились вглубь суши, составив конкуренцию аборигенам. Вороны и чайки расположились на зеленом поле напротив друг друга, будто черные и белые фигуры на шахматной доске. Я с отстраненным любопытством следил за тем, как то одна, то другая птица пытались выдвинуться вперед и отвоевать часть территории, но потом возвращались обратно или застывали на месте, не решаясь нарушить статус-кво. Казалось, партия безумного шахматиста зашла в тупик. Ситуация была патовая.