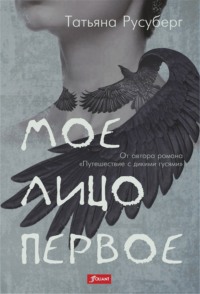Полная версия
Возраст гусеницы
Когда вернулся обратно в коридор, Дюлле там не было, зато из гостиной донеслось ойканье.
– Чего у тебя тут так темно? – Она обернулась на мои шаги. Лицо светилось бледной луной в полумраке. – Я ударилась обо что-то. Коленкой. Больно-то как… – Дюлле наклонилась потереть ушибленную ногу, лицо потухло.
Я вздохнул, сунул ей полотенце и потопал открывать шторы. Сам не помню, когда их все опустил и почему потом не поднял. Но, наверное, окна были закрыты ими уже давно, потому что глаза остро реагировали на ворвавшийся внутрь свет, увязнувший в густом от пыли воздухе.
– Ты что, этим питался? – Дюлле с ужасом указала на тарелку с засохшим на краю куском пиццы, оставшейся с дня рождения.
Я задумался.
– Не только. Руфь приносила еду. Ну, мамина подруга.
– Я знаю, кто такая Руфь, – фыркнула Дюлле и принялась вытирать мокрые концы волос.
Я присел на корточки и стал заглядывать в ящики и нижние шкафчики стенки в поисках батареек.
– Вещи мамины собираешь? – Дюллина нога в носке потыкала стоящую посреди пола раскрытую коробку.
– Угу.
– И куда ты их?
– Не знаю. В секонд-хенд сдам, наверное.
– А как повезешь?
– А?
– Ну, права у тебя есть?
– Нет. – Я завис над очередным выдвинутым ящиком. О транспортировке коров и прочего добра, которое я собирался распихать по коробкам, я еще даже не задумывался. Это действие казалось мне чем-то, лежащим далеко за горизонтом событий, – точкой невозврата, за которой ждала непроницаемая тьма одинокого будущего.
– А хочешь, попрошу папу тебе помочь? У него прицеп есть.
Я поднял на нее глаза:
– Да неудобно как-то.
– Удобно-удобно! – Дюлле возбужденно взмахнула полотенцем. – Он с радостью поможет. Ты же знаешь, как он твою маму уважает… – Она замялась, отвела взгляд и прибавила тихо: – Уважал.
Мама действительно была у паромщика Питера, отца Керстин, на особом счету с тех пор, как лет пять назад приняла роды прямо на борту «Меньи». Один местный вез жену рожать в больницу, да вот недовез. Питер обожал рассказывать эту историю, особенно туристам, каждый раз расцвечивая ее новыми сочными подробностями. По его словам, это были самые долгие двенадцать минут его жизни. Столько занимает у «Меньи» путь от Фанё до Эсбьерга. Двенадцать минут.
Я сел на пол, скрестив ноги. Ковырнул трещину в половице. Сказал, не глядя на Дюлле:
– Ладно. Только я не знаю еще, когда закончу. Тут столько всего…
– Понимаю, – быстро ответила она. – Если понадобится помощь, ты только скажи. Я могу паковать. И девчонок еще спрошу. Наверняка кто-то…
– А вот этого не надо! – Я в ужасе вскинул обе руки. Перед глазами мелькнуло зернистое, размытое фото, отправленное мне с неизвестного номера: я на траве со спущенными штанами и идиотски блаженной улыбкой. Поперек – красная надпись «Уже не девственник!» и эмодзи в виде довольного кролика.
Оригинал снимка, конечно, был гораздо более четким, просто мобильник, купленный в «Билке» за сто крон, не мог отобразить его качество. Но, даже разбитый на пиксели, я был вполне узнаваем. Эсэмэску я получил в понедельник, когда пришел в гимназию после незабываемого дня рождения. Как оказалось, на тот момент я оставался единственным, кто не знал, что странного паренька из второго «Г» – ботана-зожника с боязнью соцсетей и по совместительству последнего девственника на потоке – на спор напоили и отминетили.
Фоток наверняка было гораздо больше – на какое-то время я стал звездой «Снапчата», прославился на всю гимназию. Полагаю, единственной причиной, по которой меня не забуллили насмерть, была жалость. Как-то не по приколу ржать над человеком, у которого мать от рака умирает. Пусть даже этот человек – лузер и фрик.
Дюлле прикусила губу, отложила полотенце на журнальный столик и сделала шаг ко мне.
– Ноа, ну прости! Я правда не знала, что они затевают. А когда все поняла… Я пыталась их остановить, правда. Но меня не слушали. Пока ты не взбесился, и пока я им про маму твою не сказала. Я им тогда чего только не наговорила. И они обещали все фотки удалить. Честно. И многие сто процентов так и сделали.
– Но не все.
Я отвернулся, выдвинул очередной ящик. И наткнулся там на мамины клубки и спицы. В последнее время она увлеклась вязанием. Говорила, это ее отвлекает и много сил не требует. Она постоянно вязала теплые шарфы для меня. Что-то посложнее у нее пока не получалось. Этот она так и не закончила. Наверное, шарф лежал на столике, а я запихнул его в ящик перед приходом гостей. Я протянул руку и погладил немного колючую разноцветную шерсть. Пробормотал себе под нос:
– Да какая теперь разница.
Но Дюлле услышала.
– Очень большая! – Внезапно она присела рядом со мной, попыталась поймать мой взгляд. – Слушай, даже Эмиль потом пожалела, что согласилась во всем этом участвовать. Ты ведь ей нравишься на самом деле. Просто…
– Так это все-таки Эмилия была? – усмехнулся я горько. Ну ни хрена себе ангелочек!
– А ты не знал? – На круглом лице Дюлле отразилось искреннее удивление.
Я молча закрыл глаза. А как мне было узнать? Спрашивать у всех блондинок с вечеринки? Это при том, что стоит мне попросить у соседки по парте банальную резинку, в смысле стирательную, как я начинаю запинаться и мямлить, а уши превращаются в Даннеброг[5]? Это с Дюлле я могу более-менее адекватно общаться, так и то только потому, что знаю ее чуть ли не с детского сада – он у нас один на весь остров, как, впрочем, и школа. Поначалу я, конечно, пытался интересоваться у парней, но надо мной только ржали или давали полезные советы типа попробовать повторить со всеми чиксами класса по алфавиту и сверить ощущения.
– Ноа… – Я почувствовал ладонь Дюлле у себя на плече и резко отодвинулся.
Ненавижу! Ну почему я вечно вызываю у людей только жалость?! Как выпавший из гнезда птенчик или брошенный котенок.
– Батарейки! – объявил я, пытаясь замаскировать грубость деловитостью, и вытащил из ящика прятавшуюся под вязанием коробку.
– Так ты из-за этого перестал в гимназию ходить?
Я поднял глаза и наткнулся на испытующий взгляд Дюлле. Меня от него шибануло, как током. Волоски на руках встали дыбом. Сердце укусила давно свившаяся в груди змея. Яд болезненно запульсировал в венах.
– Тебе-то какое дело?
– В смысле? – Дюлле нахмурилась, не отводя от меня взгляда. – Я за тебя переживаю. Слушай, если ты из-за этих придурков… Так они забыли всё уже. Переключились на другое. Жизнь ведь не стоит на месте. Все теперь обсуждают пятничную вечеринку и то, как Йо-йо с Конни сцепились из-за Леи. Ну, Лея же девушка Конни, а Йо-йо начал ему предъявлять, что…
– Значит, забыли?! – Я вскочил на ноги, будто из пола вдруг выстрелила пружина и подкинула меня кверху. – Забыли?! – Змея шипела моим ртом, тугие кольца развивались, давили на грудь изнутри, заставляли пальцы сжиматься и разжиматься, хрустели суставами.
– Ноа, ты чего? – Дюлле выпучила на меня круглые глаза, медленно отползая назад на пухлых батонах.
– А ну пошла отсюда!
– Кау, ты что, совсем стал бешеный…
Теперь я уже не уверен, сказала тогда Керстин «Крау» или «Кау». Может, она ничего такого не имела в виду, и мне просто послышалось. Всего одна буква, один короткий звук. Но он изменил все.
– Иди на хрен! – рявкнул я.
В глазах полыхнуло белым, я слепо зашарил вокруг в поисках сам не знаю чего. Рука наткнулась на тяжелую гладкость фарфора. Я схватил с полки одну из коров и со всей дури запустил ею в стену. С оглушительным звоном фигурка разлетелась на кусочки над головой Дюлле. На рыжие волосы посыпалась снегом фарфоровая крошка.
Керстин взвизгнула, вскочила на ноги – вся красная, с выпученными глазами и вздувшимися под тонкой кожей лба венами.
– Ты чокнутый, Кау! – Вот теперь она точно крикнула «Кау». Без всяких сомнений. – Абсолютно чокнутый! – Наверное, она хотела сказать что-то еще, но подбородок у нее задрожал, рот скривился, и из глаз брызнули слезы. Рыдая, Дюлле бросилась в коридор. Входная дверь хлопнула. В окно через косую завесу дождя я увидел, как ее ссутулившиеся плечи и белый шлем проплыли над живой изгородью сада и скрылись за границей оконной рамы.
Где-то в глубинах дома раздался грохот. Я вздрогнул, но тут же понял, что это снова упала полочка для шампуней в ванной. Она висела на липучках и периодически отклеивалась от стены. Иногда от удара об пол на бутылочках раскалывались крышки, и тягучая разноцветная жидкость растекалась по усеянным осколками пластика плиткам.
И тут я понял кое-что.
Я не умею заводить друзей, зато мастерски теряю тех, которые каким-то чудом завелись сами собой.
Наверное, мне стоило броситься за Керстин, попытаться догнать ее, попробовать извиниться. Но последние остатки здравого рассудка поглотил бурлящий в венах яд. Я заорал, будто меня и вправду укусили, и начал швырять коров с полки – сначала по одной, а потом сгреб оставшиеся статуэтки на пол все разом. Начал топтать осколки, но быстро осознал, что делать это босиком как-то не айс. Подскочил к полке, оставляя кровавые следы на полу, содрал ее со стены и начал колошматить коровьи останки доской.
Вандализм утомляет. Наверное, поэтому я быстро уснул. Даже не помню, как добрался до кровати. Но впервые за долгое время реально отключился, как будто кто-то рубильник рванул. Раз – и темнота.
4
Я очистил дом за каких-то пару часов. Удивительно, как быстро при желании можно уничтожить следы чьего-то присутствия, отпечаток человеческой жизни – все равно что расправить складки на простыне, еще хранящей тепло и запах лежавшего на ней тела.
Коробки я не подписывал. Просто заклеивал их намертво машинкой для скотча. Не пытался сортировать вещи. Скидывал в коробки все подряд: одежду, безделушки, косметику, журналы, книги, мотки шерсти и спицы для вязания, украшения, заколки для волос… Набитые коробки стаскивал к прихожей и складывал штабелями у стенки. Каждый шаг причинял боль – я изрезал ноги фарфоровыми осколками. Но она отрезвляла, напоминала о моей цели. А может, физическое страдание просто заглушало душевное, не знаю. Главное, дело делалось.
К пяти утра остались неубранными только мамины фотографии в рамках и бумаги в ее письменном столе. Фотографии я достал из-под стекла и засунул в альбом. А к столу подтащил большой мешок для мусора. Содержимое ящиков предстояло разобрать: документы оставить, остальное выбросить. Это не должно занять много времени. Перед своей последней госпитализацией мама уже избавилась от всего лишнего. Я узнал об этом случайно.
В очередной раз стриг газон в саду и заметил, что на выложенном камнями кострище что-то недавно жгли. Пепел был совсем свежим. Меня это удивило, потому что мы уже больше года кострищем не пользовались – не до того было. В золе виднелись очертания каких-то предметов покрупнее, которые, видимо, не сгорели дотла. Я поковырялся палкой и выгреб на свет наполовину обуглившуюся пинетку и довольно страшненького игрушечного медвежонка с расплавившимися глазами и местами спекшейся от жара шерстью.
Помню, подумал тогда, что мама зачем-то сожгла мои старые детские вещи. Странно только, что пинетка там, где не совсем обгорела, была розовой. Хотя, с другой стороны, может, мама ждала девочку, а родился я. Вроде такое сплошь и рядом случается, что пол ребенка определяют неправильно – стоит вон только послушать Руфь, зацикленную на младенцах и внуках. Медвежонка я совсем не помнил. Но опять же: может, я играл с ним совсем маленьким?
Осторожно, чтобы не измазаться в золе, я взял медведя в руки – и чуть кирпичный завод не выстроил. Уродец этот вдруг как захрипит: «Нхооо-ааа» – сиплым таким, надорванным полушепотом, полустоном. Я бросил его, отскочил, руки об одежду вытираю. А медведь опять: «Нхооо-ааа» – и смотрит на меня укоризненно своими черными, расплавившимися зенками.
Божечки, как я оттуда улепетывал! Олимпийскую медаль мог запросто взять. Умом-то потом понял, что это одна из тех игрушек, в которую звуковой модуль встроен. На него можно свой голос записать для ребенка. Так, наверное, мама и сделала, просто от жара карта памяти, или что там, плавиться начала, вот медведь и захрипел. Но все равно к кострищу я больше не подходил. Так и остались там недогоревшие вещи валяться. А игрушка эта начала мне сниться – в кошмарах. Украсила собой и без того богатую коллекцию ужасов.
Когда я маму потом спросил насчет костра – во время посещения в больнице, – она сказала, что разбирала бумаги и сожгла кучу ненужного барахла. Давно оплаченные счета, письма из коммуны [6]и банка и прочие документы, где были указаны наши адрес или номера страховки. Это меня не удивило. Мама всегда очень пеклась о конфиденциальности и защите личных данных, еще до новых правил Евросоюза. Я думал, это у нее профессиональное. Врачебная тайна и все такое. Тем более иногда она мне рассказывала жуткие истории о медперсонале, который преследовали недовольные пациенты или их родственники. Это объясняло, почему у нас был тайный почтовый адрес и скрытые телефонные номера.
Старые кредитки мама всегда разрезала ножницами на тысячи крохотных кусочков, бумаги с упоминанием наших личных данных сжигала, а от соцсетей и смартфонов шарахалась, как от чумы. Кража личности, ФОМО, номофобия [7]– вот чем меня с детства пугали вместо буки и всякой нечисти. Если честно, у меня и мобильник-то появился, только когда я в гимназии начал учиться. Пока ходил в местную школу в Нордбю, мама считала, что мы вполне могли обойтись домашним телефоном. Ноут мне, конечно, купили – необходимое зло. Но с условием, что веб-камера будет залеплена пластырем – подключиться к ней через публичный вайфай проще, чем коленку почесать, даже напрягаться не надо.
В общем, спалила мама какую-то макулатуру – и спалила, я бы не заморачивался. Но игрушка-то тут при чем? Или в ней тоже какая-то личная информация была записана? Я так маму прямо и спросил. А она побледнела вся, а потом пошла пятнами. Сказала, что это просто мои старые вещи, которые она сохранила, и вообще забыла про них. А теперь вот решила избавиться вместе с прочим хламом. Я сказал, правильно, медведь реально страшный был. А про розовую пинетку не стал спрашивать. Маме стало хуже, и мне пришлось уйти.
Только вот что странно: когда я снова траву стриг, на кострище уже один пепел лежал. Ни пинетки, ни медведя. Это я к тому, что мама-то так из больницы и не вернулась, а дома был я один. Если бы не тот наш с ней разговор, я бы подумал, что мне все причудилось. Гребаная игрушка, однако, регулярно навещала меня в кошмарах. Гналась за мной по каким-то темным, заставленным мебелью комнатам, задевая мохнатой головой потолок, и хрипела в спину: «Нхооо-ааа!» А когда я оглядывался через плечо, пластиковые глаза стекали с бурой морды, будто медведь плакал черными слезами.
Впрочем, вряд ли я найду что-то типа того мишки – потомка Чаки в письменном столе. Я уселся на стул и открыл первый ящик. Сразу стало ясно, что мама действительно навела тут порядок. Никаких старых поздравительных открыток ко дню рождения, Пасхе и Рождеству; никаких старых тетрадей и стикеров с номером сантехника или паролем от вайфая; никаких мятых брошюр из зоопарка и Музея рыболовства, куда мы ходили на каникулах, когда я был в пятом классе.
Оставшиеся бумаги занимали совсем мало места – все разложены по папкам и подписаны. Документы на дом. Из налоговой. Пенсия. Страховки. Счета к оплате. Моя личная папка, совсем тоненькая, с полисом, паспортом и прочими документами. Вот и все.
Я пнул ногой пустой мешок. Похоже, класть в него будет нечего. Оставался только последний, нижний ящик. Я выдвинул его и с долей разочарования обнаружил всякие канцтовары: дырокол, стопку бумаги для принтера и пустые папки. Кажется, что-то выпало на пол. Что-то совсем легкое – улетело под стол, когда я потянул ящик на себя.
Согнувшись на стуле в три погибели, я сунул голову в полумрак подстолья. Ага, точно! Вон какой-то листок на полу. Я слез со стула и зашарил рукой по паркету. Пальцы наткнулись на что-то плоское и гладкое… Фотография?
Я сел на пол, скрестив ноги, и уставился на снимок – судя по качеству печати и цвета, довольно старый. Мы с мамой стоим в проходе между скамьями посреди церкви. Мне года четыре или пять. Мама выглядит очень молодо – такой я ее не видел ни на одном другом фото, но это точно она. На руках мама держит младенца в крестильном платье с голубой лентой [8]. Не помню, чтобы мы с ней когда-то ходили на крестины, но не это самое странное на фотографии. Рядом с мамой стоит мужчина немного старше нее. Мужчина обнимает маму за талию, а она прижимается к нему плечом. Его держит за руку девочка лет шести в розовом платье с пышной юбкой почти до пола.
Я нахмурился. Кто эти люди? И почему они позируют невидимому фотографу как… одна семья? Внезапно взгляд запнулся за оранжевые электронные цифры в нижнем углу снимка: 23.01.200… Стоп! Чего-чего? Такого просто не может быть! Это же год моего рождения. Если дата верна, мне тогда было не больше трех месяцев. Но вот же я! Переминаюсь с ноги на ногу и явно не горю желанием сниматься – я это ненавижу и сейчас. Руки держу в карманах выходных брюк – явно не знаю, что с ними делать. На лице напряженная гримаса, которая должна сойти за улыбку. Хм, наверное, в фотоаппарате сбились настройки даты и времени. Такое вроде бывает.
Перевернул фотку. На оборотной стороне круглым маминым почерком было написано: «Крестины Ноа. Старая церковь Брёнеслева». Чернила уже чуть выцвели.
Несколько мгновений я сидел неподвижно и пялился на надпись, пока буквы не стали шевелиться и расползаться по сторонам. Сморгнул, и они сложились в те же самые слова: «Крестины Ноа».
Но… как такое возможно?! Выходит, младенец на фотографии это…
Я торопливо перевернул ее глянцевой стороной кверху. Ошибки быть не могло.
Это сто процентов мама – обалденно красивая, стройная, в обтягивающем темно-синем платье. Светло-русые волосы рассыпались по плечам, лицо светится в горделивой улыбке, руки крепко, но осторожно прижимают к груди белоснежный атласно-кружевной сверток – меня? Охренеть! Но что тогда за пацан рядом с ней? И кто, черт возьми, все остальные?!
Я никогда раньше не видел фото со своих крестин. Слышал, что некоторые заводят целые альбомы, посвященные этому событию, – такие продаются в любом книжном магазине. Но мама всегда говорила, что никаких фотографий не осталось – потерялись при переезде. Пропали с частью багажа, когда мы переезжали на Фанё. Это было давно, сразу после смерти отца, и я не помнил ни самого переезда, ни нашей жизни до него. Конечно, когда был маленьким, я с обостренным детским любопытством расспрашивал маму о папе, но она отвечала кратко и неохотно, и в какой-то момент я, тонко чувствовавший перемены маминого настроения, осознал, что эта тема для нее болезненна, и перестал задавать вопросы. Ведь и переехали мы, по маминым словам, именно потому, что она не могла больше оставаться в пустом доме, где все напоминало о прошлом, напоминало о нем. Боже, как я теперь ее понимаю!
Получается, одна фотография все-таки сохранилась.
На ней я впервые увидел себя младенцем, но это ерунда по сравнению с другим открытием, которое я только что сделал, и которое все еще не могло уложиться у меня в голове.
Мужчина рядом с мамой – это мой отец! Человек в элегантном, явно сшитом на заказ костюме, улыбающийся в объектив и лучащийся гордостью за свою семью и новоиспеченного сына. Кем же еще он мог быть?!
Впервые фигура отца, расплывчатая и размытая, как собственное отражение в запотевшем после душа зеркале, стала для меня реальной, обрела структуру, цвет и размер. Я смотрел на фото и видел свое удлиненное лицо, резко очерченные скулы, густые прямые брови, немного шире, чем надо, расставленные друг от друга; маленький рот с пухлой верхней губой, вечно придающей лицу обиженное выражение.
Те же черты отчасти повторялись в по-детски округлой физиономии мальчишки в праздничном костюмчике. Этого костюмчика я абсолютно не помнил у себя. Как не помнил и эту церковь с высокими арками нефов, и синее платье, которое мама, какой я ее знал, сочла бы слишком облегающим и коротким. Какой я ее знал… А что я вообще знаю?
Кто такой этот пацан, похожий на отпечатанную на 3D-прин-тере мою детскую фотографию? Кто эта девчонка со щербатой улыбкой и светлыми кудряшками, цепляющаяся за руку отца? Что вообще на хрен тут происходит?!
И тут я вспомнил кое о чем. О пинетке, которую нашел в золе. Розовой там, где ее не тронул огонь. Розовый – значит девочка, а не мальчик.
Я вскочил так стремительно, что чуть не упал. Одна нога затекла от долгого сидения на полу в одной позе, и теперь в нее мучительно возвращалась чувствительность, покалывая изнутри тысячами иголок. Я не мог ждать, пока она отойдет. Не мог больше ждать вообще. Похромал к выходу из комнаты, подволакивая ногу.
Снаружи уже рассвело: проснувшись посреди ночи, я с яростной решимостью устроил упаковочный аврал и не заметил хода времени.
Я выскочил в сад в чем был – в той самой черной футболке из бельевой корзины и вчерашних трениках. Только ноги сунул в резиновые сапоги.
Дом празднично сиял всеми огнями из незанавешенных окон. Дождь кончился, но некошеная трава в саду легла под тяжестью скопившейся влаги. Поднимающееся солнце подожгло перья облаков, и небо полыхало плавленым золотом, словно горящий Феникс.
Я побрел через волны травы, оставляя за собой черную колею. Тело дымилось на холоде, как головешка. Словно я тоже сгорел на этом пожаре и вот-вот рассыплюсь золой.
Вот и кострище. Я упал на колени перед выложенными кругом камнями, запустил руки в холодное черное месиво, в которое дождь превратил пепел. Не знаю, что ожидал найти. Понимал же: пинетка и оплавленный медведь исчезли, хоть и получил подтверждение их реальности. Сквозь пальцы просачивались останки правды – той, что мама так спешила похоронить. Мне не осталось ничего, кроме мокрой трухи и жидкой грязи с более плотными частицами – возможно, кусочками недогоревшей фотобумаги или клочками одежды.
Я поднял перед собой перемазанные по локоть руки.
– Зачем, мама? Зачем?! – выкрикнул я. Проорал в полный голос.
Какая разница. Кто мог меня услышать? Серые цапли? Ринбю – даже не деревня. Так, скопище летних домиков на побережье, редкие фермы и жилые дома, разбросанные по сторонам главной и единственной на острове дороги.
И тут меня озарило. Стол. Фотография выпала, когда я выдвигал ящики в мамином письменном столе. Что, если там есть еще? Что, если в столе спрятан тайник? Какое-нибудь двойное дно, как в шпионских фильмах. И там…
Я забыл про кострище и бросился обратно в дом, оскальзываясь на мокрой траве. Грохнулся в коридоре, запнувшись о коврик. Кое-как сковырнул грязные сапоги с налипшими повсюду травинками, вскочил на ноги и бросился в мамину комнату, не замечая черных следов, которые мои ладони оставляли на дверных косяках и ручках, и того, что с одной ступни слетел пластырь и она снова начала кровить.
Стол я разобрал буквально по винтику. Начал с ящиков, потом перешел на стенки. Но обнаружил, увы, только пару завалившихся за ящики листков бумаги – распечатки каких-то старых счетов. И все. Никакого потайного отделения или конверта, приклеенного скотчем под столешницей. Ничего. Только одна-единственная фотография, лежащая посреди хаоса деревянных ребер и панелей. «Крестины Ноа». Трое детей и мамина парящая над их головами немая улыбка. Джоконда, чтоб ее. Гребаная Джоконда!
Я пнул ближайший раскуроченный ящик. Вскрикнул то ли от боли, то ли от отчаяния и повернулся к штабелю запакованных коробок с мамиными вещами.
Мне потребовалась секунда, чтобы осознать: я понятия не имею, что и где в них лежит и какие сюрпризы могут скрываться внутри. Я не проверял карманы одежды. Не заглядывал в сумочки или носы туфель и голенища сапог. Не открывал книги, которые брал с полок. Мне, черт возьми, даже в голову не пришло взламывать пароль на мамином стареньком ноуте – я просто тупо переустановил на нем винду, чтобы удалить личные файлы.
Хрустнув пару раз шеей, я сунул фотку с крестин в карман штанов, подхватил с пола самые большие ножницы и бросился в атаку на ближайшую коробку.
Распотрошить упакованное у меня заняло чуть ли не вдвое дольше времени, чем до этого – распихать все по картонным ящикам. Теперь я просматривал каждую складочку, каждый кармашек, открывал каждый футляр с украшениями, перелистывал каждую книгу, прежде чем бросить ее на пол, во все растущую груду вещей.
В моих поисках не было никакой системы. Вряд ли я даже сознавал, что конкретно ищу. Я просто метался по комнатам, утопая в цепляющихся за меня рукавами свитерах, спотыкаясь о туфли, путаясь в ремешках сумок, топча белоснежные страницы любимых маминых романов, взывающих ко мне очеркнутыми ее рукой строчками.
В конце концов, совершенно отчаявшись и выбившись из сил, я повалился на кучу одежных потрохов где-то между прихожей и гостиной. Последняя коробка была перевернута вверх дном и выпотрошена, а я ни на йоту не приблизился к разгадке фотографии. Могло ли случиться так, что мои предполагаемые сестра и брат погибли в аварии вместе с отцом? Но почему мама никогда не упоминала о них? Почему прятала от меня эту фотографию – эту и, возможно, другие, сгоревшие в костре вместе с пинетками и черт знает чем еще.