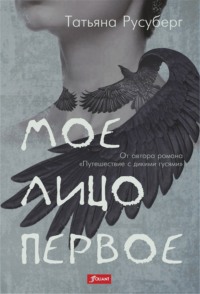Полная версия
Возраст гусеницы
Безуспешные раскопки убедили пока только в одном: скорее всего, фото со дня крещения должно было разделить участь сожженных документов, просто оно завалилось за заднюю стенку ящика, и мама его не заметила.
А что, если вся эта история с аварией – ложь? Ведь если мама соврала мне в одном, то могла соврать и в другом. Что, если и отец, и брат с сестрой живы? Просто мама не хотела, чтобы я знал о них, не хотела, чтобы мы общались. Может, они с папой развелись? Двое детей остались с ним, а меня она забрала и уехала куда глаза глядят. Сплошь и рядом бывает, что детей делят после развода. Вот только, чтобы от них скрывали существование друг друга, я вроде не слышал. Почему, ну почему все-таки она это сделала?!
Со злости я пнул стоявшую рядом наполовину разобранную коробку. Та опрокинулась, взмахнув картонными крыльями, и обрушила стопку книг на полу. Одна из них, толстая в желтой обложке, грохнулась прямо мне на ногу, больно саданув острым углом, и раскрылась, демонстрируя подчеркнутый красным текст: «Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все что угодно. В любое время. Мгновенно» [9].
«Значит, вот оно как, – подумал я. – Может, она выбросила их из своей жизни. А меня – из их. Мгновенно. А теперь вычеркнула из нее и меня. Ушла и захлопнула за собой дверь. Стучи в нее не стучи, кричи не кричи, она не ответит».
Я медленно поднялся на ноги. Сходил за мешком для мусора, который так и остался пустым. И начал запихивать в него все, что валялось на полу. Когда плотный пластик натянулся до предела, я ухватил мешок за горловину, снова надел сапоги и вытащил его во двор. Солнце к этому времени скрылось за тучами, но дождь еще не начался, будто ждал чего-то.
Я протащил мешок по своим следам в траве. Перевалил через край кострища и вывалил содержимое в золу. Пошел обратно. Снова набил мешок доверху. Оттащил в сад и вывернул в будущий костер. Четырех ходок для начала мне показалось достаточно. Я разыскал на террасе жидкость для розжига, которую мы обычно использовали для барбекю. Вылил почти полную бутылку на разношерстную кучу обломков маминой жизни. Вспомнил, что забыл зажигалку. Вернулся за ней на кухню. Снова прошел по утоптанной уже дорожке к кострищу и подпалил страницы ближайшей ко мне книги. Огонь занялся, задымил, но не охватил всю кучу. Нижние вещи, лежавшие прямо на земле, намокли и медленно тлели, источая едкую вонь.
Я вспомнил, что в гараже у нас есть канистра бензина для газонокосилки. Через несколько минут я уже щедро плескал из нее на костер, чем-то напоминавший те, что делают обычно на день святого Ханса [10], только мой был сложен не из садового мусора и сверху на нем не сидело чучело ведьмы. Хотя… вот это старое зеленое пальто и летняя шляпа вполне бы могли за него сойти.
Я подпалил костер с другой стороны, и на этот раз полыхнуло так, что пришлось отскочить в сторону – чуть брови не опалило. Ненадолго завис: люблю смотреть на огонь. Он всегда такой разный и изменчивый. Сегодня пламя было жадным и хищным, набрасывалось, кусало и терзало, грызло, рыча и облизываясь, выбрасывая синие и оранжевые языки, урча от наслаждения.
Я пошел в дом, чтобы принести ему еще пищи. А потом стоял, чувствуя жар на голой коже, высушивающий слезы, очищающий язву гнева и ненависти, согревающий холодное сердце. Оранжевые искры взлетали в воздух стаями светящихся мотыльков, мельтешили, как мошкара в световом столбе, касались моих волос, таяли на руках, прожигали крошечные дырочки в черной футболке. А потом пошел снег. Черный снег из сгоревших слов, из деревьев, ставших этими словами и тканью на ее теле, которое ушло в землю и теперь само когда-нибудь станет деревом.
Тогда я повернулся к костру спиной и вышел за калитку. Мне нужно было потолковать с Руфью.
5
Я представлял себе эту сцену совсем иначе.
Думал, буду колотить кулаками в дверь так, что весь ветхий домишко содрогнется от грохота. Руфь в испуге подсеменит к двери, откроет – а тут я на пороге в облике мстителя, вроде Тора или Железного человека. Ну, она схватится за ожиревшее сердце, закатит глазки, и тогда я выдавлю из нее всю правду.
В общем, я как-то не рассчитал, что тетки может не оказаться дома. Нет, правда, ну куда ее могло унести с утра пораньше, да еще когда дождь натягивает? Пошла искать недостающую хромосому? Ладно, раз уж пришел, подожду. Да и ноги, изрезанные осколками, у меня здорово болели от ночной беготни.
Короче, когда Руфь, предусмотрительно упакованная в дождевик, показалась на дороге на своем велосипеде, я давно уже стучал зубами у нее на крытой террасе. Хорошо, там плед лежал на одном из пластмассовых садовых кресел – хоть он и отсырел, все же давал какое-никакое тепло. Я же выскочил из дома на чистом адреналине в одной футболке.
Хромосома меня, видать, сперва не заметила. Слезла со своего драндулета и покатила его к крыльцу, бормоча что-то себе под нос. Я поднялся с кресла и вот тут-то получил ожидаемую реакцию. Тетка выпустила руль велика, охнула, прижав к груди бесформенную черную сумочку, и выпучилась на меня из-под шлема, кокетливо оформленного в виде дамской шляпки.
– Ноа?! – пискнула она.
Велосипед, послушный закону гравитации, рухнул на клумбу у дорожки, глухо брякнув звонком.
– Добр-р-р утр-р-р-р, – простучали мои зубы азбукой Морзе. Вообще-то я не собирался быть вежливым. Это как-то само вырвалось, по привычке.
– Боже праведный, Ноа! – выдохнула Руфь и колобком подкатилась ко мне поближе, щуря подслеповатые глаза. – Что это с тобой?! Ты же весь черный, как трубочист! И лицо, и руки…
Что случилось? Нет, подожди-ка, давай зайдем в дом, в тепло. Надо тебя согреть. Там все расскажешь.
Наверное, мне надо было заступить ей дорогу, тряхнуть ее пингвинье тельце и потребовать немедленно выложить всю правду. Но я замерз, устал, у меня жутко пересохло в горле, а желудок, в который ничего не попадало, наверное, уже сутки, выдал жалобную китовую песнь.
– Ты, наверное, не завтракал, бедняжка? – немедленно отозвалась на нее Руфь. Это одна из вещей, которая меня в тетке ужасно раздражает: после того, как ушла мама, я стал у нее «бедняжка» или «птенчик». Хуже могла быть только «сиротиночка». – Сейчас яишенку приготовлю. У меня там в корзине как раз свежие яйца…
Мы оба, не сговариваясь, обернулись на раскоряченный посреди клумбы с астрами и ноготками велосипед. Из корзинки, прицепленной к рулю, действительно выглядывала набитая хозяйственная сумка. На жирной черной земле между стеблями цветов желтел запаянный в пластик кусок сыра в компании бутылки кетчупа, истекающей томатной кровью.
– Ну или что-нибудь другое, – скорбно вздохнула Руфь.
Я помог ей вытащить велик из ноготков и собрать рассыпавшиеся продукты.
В тепле кухни тело начала бить крупная дрожь. Хромосома отобрала у меня влажный плед, ужаснулась и хотела отправить в ванную, но я понял, что тогда совсем размякну: трудно требовать чего-то от человека, который отогрел тебя и накормил. Я опрокинул в себя стакан воды и решительно обернулся к ставящей чайник Руфи.
– Нам надо поговорить.
– Конечно, птенчик, – всплеснула она руками. – Ты выглядишь так, будто случилось что-то ужасное! Но, может, тебе сперва…
– Вот что случилось. – Я сунул руку в карман треников, нашарил фото, перевернувшее мой мир вверх тормашками, и хлопнул его на кухонный стол. Губы свело в кривой усмешке. – Действительно, ужасно. Правда?
Актриса из Руфи была так себе. Я же видел, как у нее поджались губы и щеки затряслись, хоть она и попыталась скрыть шок, шаря по столу и полкам в поисках очков для чтения.
– Что там такое, птенчик? Совсем я слепая стала, ничего без очков не…
– Вот.
Я сунул ей в руку очки в тонкой металлической оправе, которые лежали на хлебнице.
Она скосилась на меня с плохо скрытым недовольством и нехотя нацепила их на нос. Поднесла фотографию к окну и принялась ее рассматривать. Спросила, не глядя на меня:
– И что же тут такого ужасного?
Тут я не выдержал. Взмахнул вымазанными в золе руками:
– Вы что, правда ослепли?! Тогда посмотрите сзади. Ничего не смущает?
Руфь перевернула снимок. Пожевала губами. Нашарила ближайший стул и тяжело опустилась на него. Положила фото на покрытый клеенкой стол. Сняла очки и стала протирать их кончиком кухонного полотенца.
– Может, скажете уже что-нибудь? – выпалил я и грохнулся на стул напротив, пытаясь поймать ее взгляд.
– Откуда у тебя это? – Руфь заморгала на меня короткими бесцветными ресницами.
– В маминых вещах нашел, – зло сообщил я. – Не все она успела сжечь.
Хромосома промолчала, но я по глазам ее рыбьим понял, что она знала и про костер у нас в саду, и про мамин способ разбираться с прошлым.
– Вы знаете, кто это? – я ткнул черным пальцем в фотографию. Ноготь на нем был обломан до мяса, но, когда это случилось, я не заметил.
Руфь тяжело вздохнула.
– Точно не знаю, но могу предположить. Тильда?
Тут она реально вывела меня из себя.
– Может, хватит уже?! – рявкнул я. Сказывалась ночь недосыпа. – Все вы знаете! Мама по-любому с вами делилась. Это мой отец, верно? А рядом – мои брат и сестра. – Я перевел дыхание, пожирая глазами бледную рожу Хромосомы в поисках необходимых, как воздух, ответов. – Они… живы?
Руфь покрутила в коротких пухлых пальцах очки, положила их на стол. Подняла на меня бесцветный взгляд.
– Бедный сиротка. Мне жаль. Очень жаль.
– Неправда! – Я взвился со стула и заметался по тесной кухоньке, как загнанный зверь. – Если они все… Если даже они погибли, почему мама никогда не рассказывала о брате и сестре? Почему врала, что все фотки потерялись при переезде? Зачем от меня все скрывать? И о чем я еще не в курсе?
Я закидывал Руфь вопросами, а она только трясла седой головой да куталась в пуховой платок.
– Не знаю, птенчик, не знаю. Наверное, Тильда хотела тебя защитить. Не хотела причинять тебе еще больше боли…
– Бред! – Я грохнул по столу ладонями – они аж к клеенке прилипли – и оперся на них, нависая над Руфью. – Я же не помнил никого. Потерять только отца, которого не помнишь, или еще и брата с сестрой – какая мне, ребенку, была разница? А где их могилы, а? Думаете, я поверю, что мама никогда бы не пришла на могилы собственных детей?!
Хромосома отвела взгляд и уставилась в окно, поджав губы. Пальцы вцепились в края шали, натягивая шерсть на покатых плечах.
– А пинетки и игрушка? – решил дожать я. – Розовые пинетки. Зачем было их жечь?
Руфь съежилась, будто на нее сквозняком подуло, и кинула на меня какой-то раненый взгляд. Тут меня словно молнией шибануло.
– Погодите-ка, – поспешил я поделиться своим озарением. – Это же были вы! – Я наставил на Хромосому грязный палец, чуть не касаясь ее маленького носа, украшенного бородавкой у левой ноздри. – Это вы забрали пинетку и медведя! По маминой просьбе, конечно, но это сделали вы!
Словно для усиления драматического эффекта моему воплю вторила сирена пожарной машины. Я подождал, пока звук отдалится, и спросил уже чуть спокойнее:
– Куда вы их дели?
Руфь помотала головой так, что щеки затряслись.
– Не понимаю, о чем ты. Твоя мать говорила, что сожгла какие-то старые бумаги. Если и так, это ее личное дело. Ни о пинетках, ни об игрушках я ничего не знаю.
Офигеваю со взрослых! Ведь врут как дышат. Это, наверное, с возрастом приходит? Я вот хоть и совершеннолетний уже, но до некоторых мне далеко.
Я снова опустился на стул, не сводя глаз с Хромосомы. Нетушки, хрен она у меня отвертится.
– Слушайте, – я сменил тактику и доверительно понизил голос, – я просто хочу узнать, что случилось с моей семьей. Убедиться, что не один в этом мире. Мне сейчас это очень важно. Вы должны меня понимать. Вы, как никто другой.
Я говорил искренно, но на чувства давил совершенно сознательно. Надеялся, Руфь заглотит наживку. Она вечно плакалась о своей несчастной судьбе: как передала единственной дочери свой ущербный набор хромосом, и теперь та рожает то мертвых младенцев, то нежизнеспособных уродцев, которые умирают через несколько дней или даже часов после появления на свет. Помню, у одного из них было слишком маленькое сердце, неспособное снабжать кровью организм, а у другого вроде сплющенный череп и лишние пальцы. В общем, Хромосома уже отчаялась заиметь внуков. Внуки – это, конечно, не сестра и брат, но все-таки я надеялся, что пробью старушку на сочувствие.
И правда, Руфь беспомощно заморгала, поднесла ладонь к дряблому горлу, губы шевельнулись. Но если она и сказала что-то, все заглушил вой полицейской сирены. Я мысленно выругался последними словами.
– Да что там такое происходит? – Хромосома выглянула в окно, явно ухватившись за возможность сменить тему. – Кажется, полиция. А до этого пожарные проехали. Неужели снова что-то горит в Сёнерхо? Там много домов с соломенными крышами. Правда, грозы ведь сегодня не было, и почему полиция…
– Руфь! – Я помахал ладонью у нее перед носом. – Пожар в Сёнерхо, а я-то здесь. Поговорите со мной, пожалуйста. Скажите, что вы знаете о моей семье?
Но момент был упущен. С какой стороны я ни подкатывал, тетка уперлась рогом. Ничего она с нашего кострища не забирала, а мои брат с сестрой погибли в аварии вместе с отцом. И все, точка. Только я не верил ей ни на грош. Хрен я теперь вообще кому на слово поверю. Вот фотография – это факт. Пинетка и мишка – тоже факты. Жаль, он не сказал ничего больше, кроме моего имени. Медведь, в смысле.
Руфь своей упертостью меня выбесила окончательно. Хотелось схватить ее тушку и трясти, пока из нее правда не выпадет, как монетка из копилки. Может, и до этого бы дошло, но у нее зазвонил домашний телефон. Вот чем Хромосома была похожа на маму: она тоже пользовалась этим пережитком прошлого.
Руфь усеменила в гостиную, откуда раздавались истошные трели. К разговору я не прислушивался. В тепле усталость внезапно навалилась гранитной плитой. Захотелось просто положить голову на скрещенные на столе руки и отключиться. Но мне помешали.
В кухне снова возникла Хромосома, нервно тиская завязанные на груди концы шали.
– Ноа, это был Клаус Расмуссен. Участковый. – Она остановилась у плиты, меряя меня на расстоянии тревожным взглядом. – Он сказал, это у вас в саду горит. Соседи увидели дым и вызвали пожарных. Еще он сказал, что хочет с тобой поговорить.
С меня в одно мгновение слетел весь сон. Ни хрена себе местная полиция работает! Как они вообще узнали, что я у Руфи? У них что, в машинах устройство, которое стены в домах просвечивает? Или у меня под кожу датчик джипиэс вшит?
– Ладно, – я поднялся на ноги, – тогда я пошел.
– Нет-нет, – замахала она на меня от плиты ладошками, – сиди тут. Он сам сейчас подъедет. Сказал тебе подождать.
И тут я заметил это. В глазах Руфи, во всей ее напряженной позе, в том, как цеплялись пальцы за шаль, сквозил страх. Она меня боялась.
Я медленно опустился на стул. Положил руки на колени.
– Может, тогда кофе?
6
Шеф Клаус поднес ко рту дымящуюся кружку с кофе, который сварила для нас Руфь, и шумно отхлебнул.

– Плохо выглядишь, парень. – Его глаза пропали за запотевшими стеклами очков.
Я посмотрел на свои черные руки.
– Это просто сажа. Я помыться не успел.
– Такое так просто не смоешь. – Полицейский поставил кружку на стол.
Я вскинул взгляд и встретился глазами с его – темно-карими и окруженными лучиками морщинок, уходящими в туманную дымку, отступившую к краю стекол.
– В смысле?
– Тебе повезло, что накануне шел сильный дождь, и все отсырело. Огонь мог перекинуться на дом. Или на живую изгородь. Хорошо, соседи заметили дым. Ты вообще в курсе, что сжигать мусор на участке запрещено? – Клаус снова исчез за кофейным туманом.
Я помотал головой. Вот же блин. Мама жгла себе нашу историю, жгла, и хоть бы хны. А я один раз старые тряпки подпалил – и пожалуйста, с полицией сижу объясняюсь. Что за несправедливость?
– Я обязан выписать тебе штраф. Ты ведь уже совершеннолетний. За свои поступки придется теперь отвечать самому. – Карие глаза опять возникли за стеклами в круглой оправе, взирая на меня скорее сочувственно, чем осуждающе. – Заплатить сможешь?
– Смогу. – Я подумал о том, что мама говорила о пенсии и страховке.
– Это хорошо, – кивнул полицейский. – Но я с тобой не о том хотел поговорить.
Он немного помолчал. Нагнал туману на очки.
– Я в дом к тебе заходил.
Я подобрался на стуле.
– Зачем? И… разве это законно? Ну, без ордера?
Его радужки выплыли из-за стекол сомиками и присосались к моему лицу.
– Дверь была открыта. Звонок не работал. На стук никто не реагировал. Оба велосипеда стояли под навесом. – Клаус слегка пожал плечами. – Я подумал, ты дома. И, принимая во внимание огонь и то, как выглядит ваш сад… – Он обхватил ладонями стоящую на столе кружку, побарабанил пальцами по керамическим стенкам. – В общем, у меня был повод для беспокойства.
Я отвел глаза.
Шеф невозмутимо продолжал:
– Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Заглянул в прихожую. А там земля, грязь повсюду. Вещи разбросаны. Коробки разорванные. Да еще кровь на полу. Дальше в комнате – осколки. На первый взгляд похоже на ограбление. Но замок не взломан. Зато сломана некоторая мебель. Знакомая картина?
Я молчал, уставившись в стол. А что тут скажешь? Я вполне мог представить, как последствия моей охоты на привидений выглядели со стороны.
– Люди по-разному переносят горе.
Я не ожидал такого перехода. Съежился на стуле, разглядывая узоры на клеенке. Были там какие-то красно-коричневые линии с загогулинами. Мерзкий цвет.
– Знаешь, я ведь не с Фанё, – продолжал тем временем Шеф. – Служил много лет в Орхусе, повидал там всякого. Большой город, сам понимаешь. Потом женился, переехал сюда. А тут как раз полицейская реформа, требовался участковый. – Он вздохнул, снова шумно отхлебнул из кружки. – Я к тому, что иногда с горем трудно справиться. Особенно одному. И тогда людям нужна помощь.
Я фыркнул и дернул свисающую с края клеенки ниточку.
– Профессиональная в смысле?
– Я этого не говорил. Пока.
Я бросил на полицейского взгляд исподлобья. Миленько. Похоже, я допрыгался. Прямо до психушки.
– Со мной все в порядке. Я со всем справляюсь. Просто у меня прав нет, и я не мог мамины вещи вывезти. Вот и решил их сжечь.
Шеф сунул руку в карман куртки и вытащил оттуда маленький блокнот и ручку.
– Ну, это мы порешаем. Я тебе телефончик Орлы из Красного Креста дам. Они вывозят. Причем бесплатно. – Он заглянул в мобильник, выписал номер на листок из блокнота и положил его на стол передо мной. – А вот с остальным сложнее. Ты ведь, кажется, в гимназии учишься? Вместе с дочкой Питера Дюльмера, верно?
Такой поворот застал меня врасплох.
– Ну да. Учусь. И что? – спросил я настороженно.
– Я туда позвоню. И сообщу в коммуну. – Он пометил что-то в телефоне и сунул его обратно в карман вместе с блокнотом.
– Зачем это?! – Я выпрямился на стуле. – Я учусь нормально. Пропустил пару дней, ну так у меня только что мать умерла, вы же в курсе.
– В курсе, – Шеф кивнул, блеснув лысиной. – Мои соболезнования. Но ты-то жив. И относительно здоров. Пока.
– Что значит «относительно»? – окрысился я.
Он посмотрел на меня взглядом врача, способного поставить диагноз, основываясь на состоянии кожи пациента и выражении глаз.
– Кровь на полу у вас в доме откуда?
– Ноги порезал, – с вызовом ответил я. – Случайно. На стекло наступил. Это что, преступление?
– Нет, что ты. – Шеф вытащил из кармана скомканный бумажный платок и шумно в него высморкался. – Нанесение себе вреда у нас преступлением не считается.
– Нанесение… – Я задохнулся от возмущения и вскочил со стула. – Я же сказал, это случайно вышло! У меня все под контролем.
– Оно и видно, – с ледяным спокойствием заявил коп, поблескивая на меня очками. Клянусь, он нарочно меня выбешивал!
Я понял, что, психуя, ничего не добьюсь, разве что вызова добрых братьев в белых халатах. Потоптался-потоптался на месте, да и сел обратно на стул.
– В общем, так. – Шеф положил квадратные сухие ладони по обе стороны кружки. – Чтоб завтра дул в школу… в смысле в гимназию свою. Тебе одному нельзя оставаться. Там с тобой побеседуют. И из коммуны тебя вызовут. Письмо придет на и-бокс [11]. Ты ведь и-бокс проверяешь?
– Да из коммуны-то зачем? – затосковал я. – Я занятия больше не буду пропускать. Честно. И дом приведу в порядок. И штраф заплачу.
– Потому что так надо. – Этот гребаный Санта-Клаус поднялся со стула, подошел к мойке и поставил туда пустую чашку. – Руфь!
Хромосома, видать, под дверью подслушивала, потому что возникла из-за нее в мгновение ока.
– Еще кофе?
– Нет, спасибо. Мне пора. – Шеф повернулся ко мне. – Молодому человеку надо бы помочь дома прибраться.
Тетка аж просияла вся. Еще бы, такой повод сунуть свой нос в чужое грязное белье.
– Не волнуйтесь, Клаус. Я с удовольствием этим займусь. Мы прямо сейчас туда пойдем и наведем порядок. Спасибо вам большое за поддержку. И простите мальчика за доставленные неудобства. Он ведь только что осиротел, бедняжка. У матери опухоль была размером с голубиное яйцо, уж как она мучилась, болезная…
В общем, Хромосома долго еще распиналась. К счастью, она вышла вслед за полицейским в коридор, а потом на улицу, и я уже не слышал всей той хрени, что она несла. Нет, если мне все-таки захочется нанести кому-нибудь вред, то это точно будет она. Только сначала надо выпытать из нее все, что она знает о моей семье.
7
Из всех маминых вещей я решил оставить себе три: ее любимый халат, книгу с ее пометками и один из тех шарфов, что она для меня связала. Три – хорошее число, символическое. Мне оно обычно приносит удачу.
Пушистый голубой халат еще хранил мамин запах – не затхлый душок болезни, смешанный с лекарственной химией, а свойственный только ей тонкий аромат, который мне, как Парфюмеру, хотелось бы разлить по бутылочкам и все время носить по капельке на своей коже, где-нибудь на сгибе локтя, так, чтобы в трудные минуты можно было понюхать – и перенестись в безопасность и уют детства. А пока что в халате я лег спать. Вместо пижамы. Это успокаивало.
Книга называлась «Колесо времени», автор – какой-то испанец. Это была та самая, что долбанула меня острым углом по ноге. На ее желтой обложке было изображено что-то вроде мохнатых гусениц или куколок. Изнутри одной выглядывало человеческое лицо. Наверное, книга маме очень нравилась, потому что она подчеркнула многие места в ней красным карандашом. Я решил, что если ее прочитаю, то, может, смогу лучше понять ход маминых мыслей. Типа, стану к ней ближе.
Ну а шарф можно было просто носить – как раз похолодало.
В общем, отмытый до скрипа, я лежал на кровати, завернувшись в мамин халат и с «Колесом времени» в руках, когда в дверь моей комнаты постучали. На этот раз я знал, что меня беспокоит не призрак. С уборкой мы припозднились, и Руфь осталась у меня ночевать. За окном бесился очередной осенний шторм, и выставить тетку на улицу на ночь глядя у меня язык не повернулся. Еще завалится в какую-нибудь канаву на своем драндулете, а Шеф Клаус на меня потом мокруху повесит.
– Птенчик, ты не спишь? – В дверь снова поскреблись.
Я вздохнул, сунул книгу под подушку и натянул одеяло до подбородка.
– Как раз собираюсь. Завтра рано вставать.
– Можно я зайду? На минуточку.
Я еще и ответить не успел, а Хромосома уже протискивалась в комнату своей пингвиньей тушкой – впрочем, все как всегда. Посеменила к кровати, уселась на краешек, кутаясь в платок. И замолчала. А вот это как раз для Руфь было настолько нехарактерно, что я перепугался.
– Как вы себя чувствуете? Как давление? Как сердце?
Тетка вечно жаловалась на миллион донимающих ее болячек: ее послушать, так она уже одной ногой в могиле стоит, причем последние лет эдак двадцать. А сегодня и вовсе расклеилась. Сперва я на нее наседал с фоткой и пинетками, а потом мы здорово погрызлись из-за маминых вещей.
Когда Руфь своими глазами увидела, что именно заставило Санта-Клауса в погонах обеспокоиться моим психическим здоровьем, она за сердце схватилась и давай в кресле умирать. Как это я мог так мамиными вещами распорядиться. И даже ее Хромосомье Величество не спросил. Может, она хотела себе оставить что-то на память о единственной близкой подруге. А я эту память испоганил и с землей сровнял.
Тогда я возразил, что она-то меня не спрашивала, когда поминки по маме устраивала, хотя ни мама, ни я этого всего не хотели. Я на это сборище даже не пришел – не только из принципа, а потому что мне реально тогда хреново было. Я видеть никого не мог, тем более скопище чужих пьяных рож. Руфь меня потом долго за это пилила и теперь продолжила, пока не вывела меня из себя. В общем, кончилось все тем, что шваброй махал я, а она опустошала запасы валерьянки из маминой аптечки и жаловалась на жестокую судьбу и людскую неблагодарность.