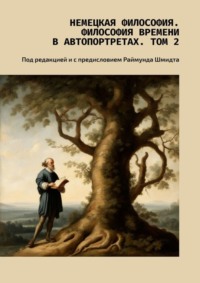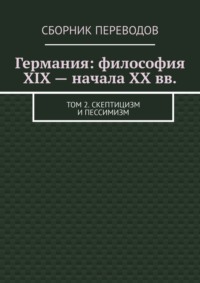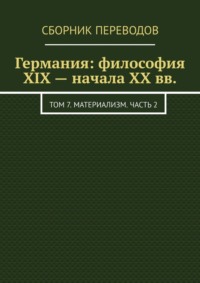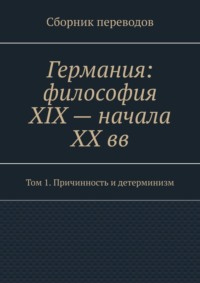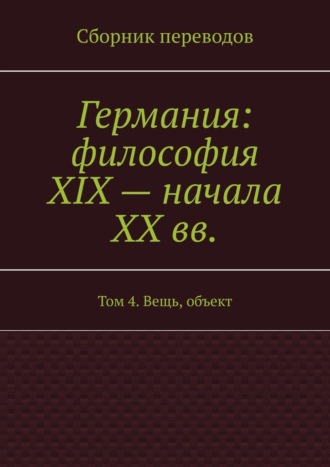
Полная версия
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 4. Вещь, объект
В результате получается, что либо разговоры о тождественном общем объекте, «человеке», «цвете» и т. д. являются просто фиктивными разговорами: тогда мы остаемся с номинализмом. Либо такая сущность есть, и в этом случае мы должны вернуться от Аристотеля к Платону, потому что искать эту сущность нужно не в индивиде, а вне его, пусть и не как реально существующую вещь.
А теперь другая сторона теории Аристотеля. Аристотель хочет искоренить метафизические компоненты платоновского учения, но удалось ли ему это сделать? Метафизическая реальность общего остается принципиально той же самой, даже если общее переносится на индивидуальное. Прежде всего, если общее-концептуальное должно быть сущностью вещей, это означает, что для каждого отдельного объекта существует только одно общее понятие, к которому он принадлежит и которое мы должны найти. Теперь, с другой стороны, к нам приходит убеждение, что образование понятий – это, в определенных пределах, дело нашего произвола, что мы всегда можем включить два объекта, если они имеют определенные общие черты, в одно и то же понятие, что мы можем, таким образом, отнести объект к любому числу понятий. Ни вечно неизменный платоновский мир идей, ни аристотелевское представление о столь же неизменной понятийной сущности в каждой вещи не соответствуют этой стороне общих понятий. Это приводит нас к Локку.
Локк исходит из того, что то, что предлагает нам восприятие, – это единственное, что нам дано, и все воспринимаемое как таковое индивидуально. Разум же создает из восприятий новые сущности, с одной стороны, разбивая их на части, а с другой – объединяя в новые целые. Таким же образом создаются общие идеи. Мы видели треугольники разных форм, а теперь объединяем увиденное и запомненное в одну идею треугольника вообще, «треугольник вообще». Этот треугольник вообще не является ни чем-то метафизически реальным вне нас, ни чем-то физически реальным в воспринимаемом мире, но это нечто созданное нами, которое, следовательно, существует только как наше воображение.
Понятно, что Локк таким образом отбросил метафизическое из платоновской и аристотелевской доктрины. Но столь же очевидно, что против обычных образов, которые, по его мнению, должно создавать воображение и с помощью которых он хочет решить проблему общего, можно выдвинуть те же возражения, что и против платоновских идей и аристотелевских абстрактных объектов: это вполне очевидные временные сущности, даже возникающие и исчезающие, а значит, индивидуальные объекты. Только не физические, а психологические. Кроме того, существуют известные неудобства, которые возникают из-за необходимого объединения противоречивых элементов в эти общие образы и на которых Беркли затем основывает свою резкую критику доктрины Локка.
Если слово общего значения действительно соответствует постигаемому объекту, то этот объект нельзя представить ни как абстрактную часть отдельных объектов, ни как образованный из них фантастический образ, который в конечном счете также индивидуален, но его можно представить только как объект собственного рода, вневременной природы, который – в этом отношении мы должны вернуться к Платону – стоит за пределами всего физически и психологически реального. Мы должны постичь этот объект, конечно, с помощью восприятия отдельных объектов, но не в форме простого ассоциативно срабатывающего воспоминания, не в форме абстрагирующего возвышения и не в форме фантазирующего обобщения, а именно в его собственной форме, в особом «акте» обобщения. Это подводит нас к позиции современных теоретиков объекта, которая, можно сказать, сама собой возникает как результат критики платоновской, аристотелевской и локковской доктрин.
Я привожу пример Гуссерля:
«В том смысле, что мы подразумеваем красный цвет in specie, мне представляется красный объект, и в этом смысле мы смотрим в его сторону (что мы, в конце концов, не имеем в виду). В то же время в нем возникает красный момент, и в этом отношении мы снова можем сказать, что смотрим на него. Но мы также не имеем в виду этот момент, эту индивидуально определенную единичную черту в объекте, как, например, когда делаем феноменологическое замечание о том, что красные моменты дизъюнктивных [дифференцированных – wp] частей поверхности также дизъюнктивны. Хотя красный объект и возвышенный красный момент появляются в нем, мы скорее имеем в виду один идентичный красный, и мы имеем его в новом способе сознания, благодаря которому вид вместо индивида становится для нас объективным». (Логические исследования II, стр. 106.
Мы «подразумеваем» тождественный красный, то есть, конечно, не только: мы подразумеваем его, например, словами, но и постигаем его, как, очевидно, следует из выражения: «он становится объективным для нас, а не для индивида».
Я не верю, что теория Гуссерля может быть атакована и опровергнута так же, как теория Аристотеля и Локка. Он не считает себя вынужденным приписывать общему объекту свойства, которые снова делают его индивидуальным.
Я не могу признать опровержение Марти (Untersuchung zur Grundlegung etc. vol. 1, p. 337) обоснованным. Оно исходит именно из той путаницы, с которой Гуссерль хочет бороться, из аристотелевского смешения абстрактного и индивидуального частичного содержания и общего («красный момент» и «краснота в виде»). На вопрос, существует ли «цвет» только один раз или также снова в «синем» и «красном», что привело бы к известным неудобствам, ответ таков: «цвет» как тождественный объект существует только один раз, но в синем и красном существует абстрактный цвет-момент, который относится к «цвету» как виду, так же как красный-момент в красном, который я сейчас видел, относится к «красному» как виду. Однако утверждение, что существование истинных родов «in abstracto» и «для себя» влечет за собой противоречие, основано на нечеткой форме выражения. Это было бы противоречием, если бы хотели говорить об абстрактном частичном объекте индивида, существующего in concreto, и точно так же, если бы хотели говорить о роде, который не является родом чего-то, то есть не находится в своеобразном отношении к чему-то индивидуальному, что позволяет этому индивидуальному быть подведенным под род; я не нахожу никакого дальнейшего противоречия. Наконец, что касается вопроса о том, называется ли краснота в виде вида краснотой в том же смысле, что и краснота отдельного красного цвета, находящегося передо мной, то следует сказать, что у Гуссерля слово «краснота» обозначает в каждом случае одно и то же, а именно красноту в виде вида, но что выражение: «есть» краснота, имеет каждый раз разное значение: в применении к абстрактному красному моменту цвета передо мной это означает, что этот момент стоит в логическом отношении индивида к роду; в применении к роду это означает, что он называется краснотой.
Таким образом, мы можем назвать эту теорию единственно возможной теорией общего, если будем настаивать на предпосылке, что слова общего значения соответствуют постигаемым объектам, то есть что вопрос о значении таких слов вообще может быть задан со смыслом. Поэтому она остается единственно возможной теорией, если мы не ставим себя на почву номинализма.
Тем не менее, если сравнить эту теорию с теорией Аристотеля и Локка, то в ней, несомненно, есть что-то неудовлетворительное. Аристотель и Локк определенным образом пытаются заставить нас понять общее и то, как мы приходим к нему от индивидуального. Они делают это, обращаясь к процессу абстрагирования, с которым мы также знакомы, или к композиционной функции воображения, с которой мы также знакомы, пытаясь проследить общее до таких вещей. Гуссерль, с другой стороны, обходится без такого прослеживания; мы узнаем только об особом акте обобщения и особой природе вневременных идеальных объектов. Любое более подробное описание, любое определение природы этих вещей отвергается как невозможное; в основном говорится лишь о том, чем они не являются (не реальны, вневременны). В этом кроется сила, неопровержимость, но и очевидная слабость позиции Гуссерля. Эта слабость становится особенно очевидной, если учесть, что мы также не получаем никакой реальной информации об отношении общего к индивидуальному. Его можно описать в различных терминах: Общее всеобъемлюще, оно также содержит в себе индивидуальное, как род оно, конечно, отлично от индивидуального, но тем не менее снова содержит его в себе. Аристотель и Локк пытались объяснить эти отношения; Аристотель – описывая общее как абстрактную часть, которая является общей для различных индивидов и повторяется в них; Локк – рассматривая общую концепцию как продукт воображения, возникающий в результате обработки различных индивидуальных сущностей. Эти определения не достигли того, что должны были, но все же были попытками в этом направлении, тогда как у Гуссерля мы снова сталкиваемся только с конечным и неописуемым, таким как «акт обобщения» и «идеальные объекты». В сущности, мы испытываем здесь ту же неудовлетворенность, что и в случае с платоновским «причастием». Там, где мы ожидаем описания, постижения, мы встречаем либо просто слова, не говорящие нам ничего нового (обобщение), либо туманные аналогии, такие как участие. И, наконец, самое, пожалуй, важное. Если мы делаем предложения о «треугольнике», о треугольнике вообще, то эти предложения также применимы eo ipso [в себе – wp] к отдельному треугольнику и, более того, к каждому отдельному треугольнику, ко всем треугольникам. Аристотель и Локк ясно указывают на эту связь: то, что истинно для треугольника, истинно и для отдельного треугольника, потому что треугольник содержится в отдельном треугольнике, и это истинно для всех отдельных треугольников, потому что это то, что одинаково повторяется во всех них. Точно так же Локк может сказать: отдельные треугольники содержатся в общей треугольной идее, поэтому о них также можно судить, судя об общем треугольнике. Гуссерль, напротив, не может объяснить эту связь дальше. Треугольник – это объект, отличный от индивидуального треугольника, даже если он основан в нем и находится с ним в своеобразной логической связи. Благодаря этой связи то, что заложено в сущности первого, «очевидно» истинно для второго. Вопрос «почему» остается без ответа. Конечно, теперь Гуссерль ссылается на прямой феноменологический анализ для всех своих определений. То, что представляет собой красный цвет, не может быть описано далее, но может быть постигнуто только в созерцании, перенесено в реальность. Так же и с актом обобщения и вневременной идеальной природой общих объектов. Тот, кто смотрит на красный цвет и в то же время конкретно рассматривает, думает, наблюдает его как представителя вида красного, имеет перед собой общий объект, о котором идет речь, настолько непосредственно, что он также постигает разницу между общим и индивидуальным объектами так же непосредственно, как мы постигаем разницу между красным и синим цветом путем сравнения. И осознавая таким образом связь между видовым и индивидуальным, мы делаем для себя очевидным положение о том, что то, что относится к этим объектам in specie, должно относиться и к нему in concreto.
С точки зрения логики, этот аргумент невозможно оспорить. Но действительно ли феноменологическое описание говорит здесь так однозначно, как думает Гуссерль? Учитывая существование аристотелевских, локковских и номиналистских теорий, это уже кажется сомнительным. Спросим объективно: действительно ли при рассмотрении отдельного объекта in specie нам дается новый объект, именно вид как таковой, о котором мы можем судить, сравнивать и различать? Я могу лишь сказать, что такое описание кажется мне неточной интерпретацией феноменологических фактов.
Разумеется, необходимо признать некоторые различия. Во-первых: я могу, например, взять перед собой синий цвет и смотреть на него исключительно как на самого себя. Я либо не называю его вообще, либо называю его «это здесь», «этот цвет здесь» и т. д., сознавая, что эти слова предназначены только для того, чтобы назвать, зафиксировать то, на что я смотрю. В другой раз я говорю о цвете, что он синий, голубой. Тогда для моего непосредственного сознания слово и данный факт вступают в иные отношения; я знаю, что здесь я не только называю и фиксирую, но и сужу и тем самым выхожу за пределы данного здесь содержания. Но это не значит, что я имею перед собой объект (или объекты), с которым я соотношу данный синий цвет в смысле моего суждения, как данный объект, выражая суждение с пониманием. Однако это необходимо только в том случае, если встать на ту точку зрения, что если слово используется с пониманием, то обозначаемый им объект также должен быть дан. Поскольку Гуссерль стоит на этой точке зрения, его учение о непосредственно постигаемых, идеальных объектах является лишь логичным. Но эта точка зрения уже была отвергнута ранее.
Во-вторых, мы можем, например, судить о нарисованном на бумаге треугольнике один раз с точки зрения его индивидуальных свойств и один раз с целью геометрической демонстрации с точки зрения существенных свойств треугольника в целом. Но и здесь я должен отрицать, что в этом случае для нас возникает новый объект; феноменологический факт заключается, как мне кажется, лишь в том, что некоторые другие моменты в нарисованном треугольнике выделяются для нашего внимания и что конечный результат, сформулированный лингвистически как суждение о треугольнике в целом, переносится на нас осознанием того, что он выходит в своей обоснованности за пределы содержания этого рисунка. Почему? На этот вопрос еще предстоит ответить. Подведем краткий итог: Есть смысл сказать, что мы рассматриваем треугольник и как отдельное целое, и как треугольник в целом. И у нас есть осознание того, одно это или другое. Но во втором случае это осознание, как мне кажется, не есть данность вида, а знание о принадлежности данного индивидуального содержания к чему-то, что не дано непосредственно. Поэтому я не могу признать, что теория Гуссерля является результатом очевидного феноменологического описания. Тем более мы вправе указать на вышеупомянутые недостатки теории, которая отсекает ряд вопросов, а не отвечает на них. Если мы теперь отвергнем доктрину Гуссерля, то останется только позиция номинализма. Ведь мы видели, что на вопрос о значении слова можно ответить окончательно и удовлетворительно, лишь приведя в существование факт, которым можно заменить слово, к которому оно относится лишь как репрезентативное имя собственное. В применении к словам так называемого общего значения это означает, что мы должны сделать общие объекты данностью – «красный», вид «звук». Эти объекты могут быть только такими, как их определяет Гуссерль: вневременными и идеальными – потому что все временное есть eo ipso индивидуальное – вне индивидуально данного; отделенное от него и его частей – потому что каждая часть индивидуального есть также индивидуально существующая и преходящая сущность, которая обнаруживается в том же качестве, но не как тождественная, в различных индивидуальных. Если таких идеальных условий не существует, то вопрос о значении этих слов остается без ответа, т. е. эти слова вообще не могут иметь значения в том смысле, который мы до сих пор предполагали. Это слова, которым мы не можем приписать ни одного известного нам постижимого объекта, который бы они обозначали, и когда мы говорим о таких объектах, об общих объектах, мы осуществляем простую фикцию. Если мы определим термин «номинализм» достаточно широко, чтобы обозначить этот тезис, который, по общему признанию, изначально является по сути негативным, то, отвергнув теорию Гуссерля, мы встанем на почву номинализма.
Конечно, номинализм становится настоящей теорией только тогда, когда у него есть определенный ответ на вопрос, как мы приходим к таким фикциям и с каким правом, в каком смысле мы можем, тем не менее, говорить, как мы это делаем, о том, что «существуют» общие понятия, под которые могут быть подведены отдельные, индивидуальные объекты. И когда мы получим такую теорию, настанет время исследовать ее на предмет того, может ли она удовлетворительно ответить на те вопросы, которые доктрина Гуссерля отсекает.
Наконец, последнее замечание. Помимо прямого феноменологического описания, Гуссерль ссылается в своей теории еще на один момент, на котором он делает особый акцент. По его словам, «внутреннее право конкретных (или идеальных) объектов наряду с индивидуальными (или реальными) объектами» является «главным основанием для чистой логики и эпистемологии». Это «точка, в которой релятивистский и эмпирический психологизм отличается от идеализма, который является единственной возможностью эпистемологии, единодушной с самой собой».
«Разумеется, под идеализмом здесь понимается не метафизическая доктрина, а та форма эпистемологии, которая признает идеальное как условие возможности объективного знания вообще и не психологизирует его». (Логические исследования II, стр. 107)
Это самый важный момент, в котором номинализм должен доказать смысл своего существования; он должен показать, что не отменяет «возможность объективного знания», что он не ведет к несостоятельным релятивистским и скептическим последствиям. Это также является важнейшей задачей следующих глав.
7. Проблема вещи (реальных предметов)
Мы видим перед собой вещь определенного вида, например дерево. Можем ли мы тогда сказать, что эта вещь, дерево, стоящее перед нами, непосредственно дано нам? Нет сомнений в том, что нечто непосредственно дано нам здесь, и более того, что мы называем это нечто деревом без дальнейших размышлений. Но мы знаем, что одного этого факта недостаточно, чтобы ответить на вопрос утвердительно. Мы знаем, что может случиться так, что, намереваясь просто описать и обозначить данное, мы используем для этого обозначения слова, которые, согласно их значению, выходят за пределы данного, говорят больше и нечто иное, чем охватывает данное. Поэтому требуется эксплицитная рефлексия над значением этих описательных терминов и конфронтация с данностью, чтобы решить, действительно ли это была только феноменологическая характеристика, только именование данности. И здесь, применительно к данному случаю, легко указать на всевозможные вещи, которые, очевидно, включены в утверждение, что стоящая передо мной вещь – это вещь, а именно дерево. Например, у этой вещи также есть спина, она также обладает силой и твердостью. И то и другое принадлежит этому дереву: предположим, например, что твердости нет, что нащупывающая рука не встречает сопротивления, а без сопротивления тянется в пустой воздух; или что, когда я хочу посмотреть на дерево со спины, вся картина исчезает; тогда я должен признать, что ошибался в утверждении, что передо мной стоит вещь, дерево, что я только «верил», что вижу дерево, вещь.
Таким образом, утверждение, что это дерево, подразумевает, что у него есть спина, твердость, массивность. Но в данный момент мы уже не воспринимаем эти факты, они нам не даны, поэтому смысл предполагаемого описания включает в себя размышление о том, что не дано. Возможно, можно утверждать, что обратная сторона, твердость, упругость в определенном смысле даны: имеет смысл сказать: я вижу твердость, я также вижу, что дерево имеет объем и, следовательно, обратную сторону. Однако здесь необходимо провести точное различие: мы, очевидно, не видим обратной стороны дерева, но мы видим, что у него есть такая сторона, или, что означает то же самое, мы видим, что у него есть обратная сторона, что оно обладает твердостью и упругостью, подобно тому, как мы «видим», что суп на столе еще горячий. Это значит: мы видим здесь что-то, что дает нам немедленное убеждение, что здесь есть тепло. Мы не видим самого тепла, но мы знаем, что оно есть, и выражаем это знание в соответствующих суждениях, более того, мы ведем себя в соответствии с этим знанием. Конечно, что-то в происходящем дает нам это знание, навязывает его нам, как это было в нашем примере с поднимающимся паром, не в виде сознательно выполненного умозаключения, а в определенной степени автоматически, инстинктивно, без того, чтобы мы вообще осознавали, что здесь есть некое посредничество. Точно так же в том, что мы видим в дереве, есть определенные моменты, которые сразу же заставляют нас приписать ему обратную сторону и т. д. в словах и действиях – сказать, какие именно моменты, конечно, нелегко, это требует специального анализа. Но каковы бы ни были эти моменты в данности, которые заставляют нас говорить, что мы видим в дереве эти качества, – несомненно то, что мы не видим в дереве обратной стороны и т. д. И, таким образом, мы видим не дерево, в том смысле, в каком мы понимаем под видением непосредственную данность, а лишь нечто, стоящее в определенном отношении к этой вещи, называемой деревом, одну сторону, один вид дерева.
То же самое мы видим и с другой стороны. Мы ходим вокруг дерева. Видим ли мы одно и то же или разные вещи? Очевидно, что мы видим одно и то же, поскольку всегда видим одно и то же дерево, но также очевидно, что в каждом случае мы видим нечто иное, поскольку зрение, которое предстает перед нами, очевидно, другое и иное, таким образом: нам дано нечто иное, о чем мы, тем не менее, говорим, что это то же самое. Отсюда снова следует, что вещь следует отличать от данного и что утверждение, что данное есть вещь, подразумевает не простое описание, именование данного, а суждение о нем, отношение данного к чему-то другому, именно к вещи. Само это отношение еще нуждается в анализе; оно лишь условно обозначено, когда мы называем данное возникновением вещи. Возможно, кто-то снова возразит, что здесь нет никакого различия, поскольку, прогуливаясь вокруг дерева, мы даже не осознаем разницу меняющихся взглядов именно тогда, когда убеждены, что перед нами именно эта вещь, дерево, поскольку вместо него перед нами идентичная вещь. Но это неверно. Мы, несомненно, осознаем, что здесь есть по крайней мере несколько точек зрения, то есть что существует временное различие, и мы также неизбежно осознаем качественное различие точек зрения, как только мы действительно настраиваемся на данное описательным образом и не довольствуемся тем обозначением, которое данное сразу же нам предлагает; когда мы анализируем феноменологически, а не просто описываем наивно, как было сказано ранее. Конечно, в связи с этими предыдущими замечаниями здесь возможно последнее возражение, к которому я вернусь ниже: возражение, что этот анализ также уничтожает непосредственно данное, тождественное вещи, саму вещь.
Во-первых, мы можем представить полученный до сих пор результат в другой форме. Если мы заменим одного человека, движущегося вокруг вещи, разными людьми, смотрящими на нее одновременно, то вещь, очевидно, будет точно такой же. Наблюдатели видят «одно и то же», поскольку все они говорят об одном и том же, они видят разные вещи, поскольку то, что дается сразу, столь же очевидно отличается, зрение, которое есть у одного человека, не тождественно зрению, которое представляется другому. Наконец: я снова смотрю на вещь одну, но теперь я закрываю глаза или отвожу взгляд – тогда вид, который был раньше, исчез, на его место пришло что-то другое, что-то вроде однородной земли, которая предстает перед нами, когда глаза закрыты. Но мы говорим о вещи: она все еще здесь, она все еще существует. Таким образом, мы говорим о вещи все то, что, очевидно, не относится к непосредственно данному, а именно, что это та же самая вещь, с какой бы стороны на нее ни смотрели, и что она все еще существует, когда на нее больше не смотрят, – из чего следует, что непосредственно данное и вещь – это две разные вещи, что вещь не является непосредственно данным.
Проблема, которая, как видно, присуща понятию вещи, в точности аналогична проблеме рода, рассмотренной в предыдущем разделе. Попытка дать нам род как таковой, общий объект, «тот» синий, не приводит ни к какому результату; данное всегда остается конкретным, индивидуальным синим, вообще говоря, индивидом, который подпадает под данный род, принадлежит к нему. Так и здесь: мы никогда не привносим в данное вещь, но всегда лишь состояние восприятия, принадлежащее вещи, которая стоит в определенном отношении к ней. Мы можем использовать термин «появление» в обоих случаях: В каждом случае нам дается только индивидуальный, темпорально определяемый вид рода, а не сам вневременной, тождественный род, и точно так же только изменяющийся вид вещи, а не всегда постоянная, неизменная вещь. При этом, разумеется, вопрос о том, что означает здесь каждый раз «появление», остается без ответа, как и вопрос о природе рода и вещи.
Если проблема рода – это проблема, характерная для античной философии, то вопрос о сущности вещи принадлежит почти исключительно философии более позднего времени. Декарт затрагивает ее в своем известном рассуждении о «куске воска», хотя его конечный замысел лежит в другом русле. Все, что мы можем уловить в куске воска при чувственном восприятии, меняется в тот момент, когда мы подносим его к огню. Но мы по-прежнему утверждаем, что кусок воска тот же, что и раньше. Таким образом, в результате исследования мы, используя язык, вводим себя в заблуждение и используем неверное выражение, когда говорим, что видим сам воск, а не то, что судим о его наличии по восприятию цвета и формы. Первым, кто действительно ставит проблему в нашем понимании, является Локк. Когда мы воспринимаем вещь, мы видим определенную форму и цвет, ощущаем определенную твердость, чувствуем сопротивление и тяжесть. Но теперь мы отличаем, по крайней мере на словах, саму вещь, саму субстанцию, от этого видимого сейчас цвета и формы, ощущаемой сейчас твердости и т. д. Вещь не есть этот цвет, но она его несет, она не есть эта твердость, которую я ощущаю, но она ее имеет. В связи с этим возникает вопрос: что такое сама вещь? И именно на этот вопрос нельзя найти удовлетворительного ответа, потому что, пытаясь постичь саму вещь, мы всегда остаемся лишь с одной из уже упомянутых «идей». Таким образом, понятие субстанции вещи остается для Локка «неясным», потому что это понятие, которое не может быть заменено данным фактом, идеей в его языке.