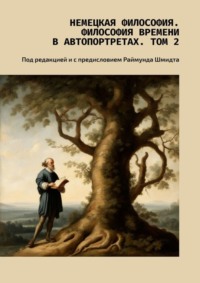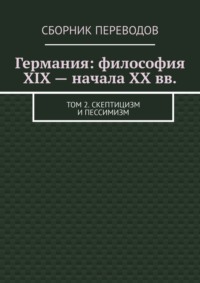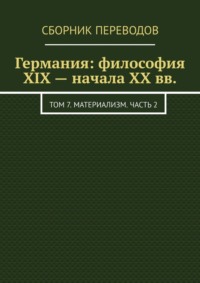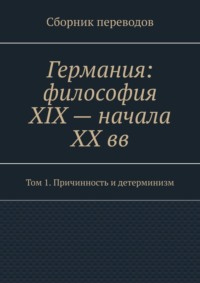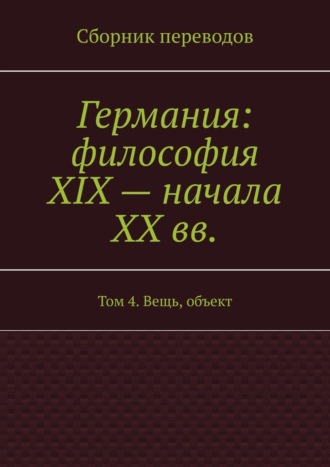
Полная версия
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 4. Вещь, объект
Поначалу эта задача кажется очень простой. Казалось бы, все, что мне нужно сделать, – это перечислить, констатировать то, что есть для меня в определенный момент как непосредственно данное, то, что находится передо мной, – как при такой задаче вообще можно сомневаться, заблуждаться, иметь разные мнения? И все же при ближайшем рассмотрении обнаруживается удивительный поначалу факт, что едва ли можно найти больше противоречий, чем в чисто феноменологических, чисто описательных вопросах, в простом изложении непосредственно данного. Можем ли мы подвести общие объекты под данное, или же номинализм прав, когда утверждает, что таких общих объектов не существует ни в каком виде, а есть только – realiter и phenomenaliter – отдельные содержания и омонимичные слова (одинаковые или похожие звуки), которые мы к ним прилагаем? Существует ли телесная вещь как особый постигаемый объект, или то, что мы называем таковым, как учит идеализм Беркли, есть лишь сумма перцептивных содержаний? Существуют ли чувства как самостоятельные содержания сознания, или то, что мы называем ими, есть просто ряд телесных ощущений? Существуют ли «акты» видения, слышания, чувствования, мышления как самостоятельные содержания, которые можно пережить и постичь? Каждый, кто знаком с литературой, с историей этих, казалось бы, чисто феноменологических вопросов, знает, насколько резко противоположны здесь взгляды.
Как возможны такие противоречия? Как могут возникать ошибки в чистом описании данности и как мы должны себя вести, чтобы избежать этих ошибок?
Поскольку, безусловно, права может быть только одна из спорящих сторон (предполагать, что в сознании одной стороны присутствует нечто, отсутствующее в сознании другой, было бы несколько наивным решением спора), мы должны прежде всего предположить в общем виде, что желание, намерение, задача определить, описать и воспроизвести словами данные факты могут как-то повлиять на результат феноменологического описания, фальсифицировать его в той или иной степени. Точнее, здесь есть две возможности.
С одной стороны, желание описать данное и связанная с этим желанием, так сказать, теоретическая установка могут убрать некоторые вещи из нашего поля зрения, возможно, заставить их вообще исчезнуть, или, наоборот, создать факты для нашего сознания в том или ином смысле. Подумайте, например, о мимолетных эмоциональных переживаниях, об аффектах, которые несовместимы с такой теоретической установкой, с намерением самонаблюдения. Конечно, в широких пределах память, а возможно, и фантазия, которая не подвержена этой трудности, могут вступить здесь в игру в качестве дополнения. Или другой случай, который можно было бы здесь использовать: намерение констатировать и перечислить данное невольно приводит к анализу, расчленению, то есть к тенденции разложить то, что нам дано, на отдельные, резко очерченные факты. Но не является ли этот анализ также своего рода фальсификацией? Во-первых, имеем ли мы право описывать то, что дано нам в момент анализа, как то, что было дано раньше, когда факты были перед нами в неанализированном виде? Можно, по крайней мере, задаться этим вопросом. А с другой стороны: не могут ли некоторые вещи быть уничтожены и сведены на нет этим анализом? Целое часто больше, чем сумма его частей; но анализ имеет тенденцию подменять целое суммой частей. Так что и здесь результатом может стать то, что сама установка на чистое описание данного эскамотизирует [интерпретирует – wp] важные компоненты данного и подталкивает другие вещи на их место. Легко видеть, что здесь возникают реальные и отнюдь не незначительные трудности для феноменологического описания, которые могут привести к различиям во взглядах.
Однако даже в этом последнем случае использование памяти и воображения дает определенную возможность принципиального решения. Мы слышим звук, сначала как единое целое, затем концентрируясь на его частях или на той или иной отдельной частице. Затем сравнение того, что мы слышим сейчас, с тем, что мы слышали раньше, показывает нам, что нечто новое, нечто иное на самом деле возникло благодаря нашей внимательности к частицам, так что мы не можем просто сказать, что частицы уже были там раньше. С другой стороны: у меня был общий опыт, и теперь воспоминание именно об этом общем опыте показывает мне определенные характерные частичные переживания в нем: тогда я могу утверждать, что эти частичные переживания были даны в то время, потому что воспоминание показывает мне эти части как данные в общем содержании в то время. Мы видим разницу между этими двумя случаями: память является средством повторного рассмотрения самого предыдущего факта, а именно через посредничество образа памяти, и результат, который она дает, таким образом (при условии верности памяти) дает природу самого предыдущего факта.
Последующий анализ звука, с другой стороны, осуществляется на перцептивном содержании, которое является просто новым перцептивным содержанием по сравнению с предшествующим (неанализированным звуком) и не имеет функции репрезентации предшествующего содержания. Наконец: я разлагаю в памяти общее переживание на составные части, но те части, которые я могу ухватить здесь по отдельности, изолировать их до некоторой степени, все же показывают нечто характерно иное, недостаток по сравнению с общим переживанием того времени: тогда я приду к заключению, что это общее переживание все же имеет особую черту, которую по какой-то причине нельзя выделить так, как это было возможно с другими частичными переживаниями. Ошибки, неопределенность суждений, конечно, все еще остаются возможными. —
Однако, кроме того, теперь существует вторая возможность, второй источник ошибок. Описание данного также предполагает описание и воспроизведение данного в словах. Может оказаться, что это воспроизведение незаметно добавляет всевозможные вещи, содержит непреднамеренное изменение или суждение о данном, а затем, будучи ошибочно воспринято как чистое описание, позволяет нам утверждать как «данное» то, что на самом деле таковым не являлось. Марти, который недавно указал на этот источник ошибок, говорит о фальсификации описательных выводов через «внутреннюю форму языка». Например, он обвиняет теорию эмпатии в том, что она позволяет обмануть себя внутренней формой языка, когда понимает всевозможные общепринятые выражения, приписывающие неодушевленным вещам активность, как будто говорящий действительно чувствует жизнь, душевность этой вещи. Или вот еще пример: я заявляю о существовании определенного эмоционального переживания словами «я испытываю удовольствие». Эти слова разбивают переживание на три фактора: удовольствие, ощущение удовольствия и ощущение «я»; они как бы констатируют существование этой троицы. Но нельзя отбросить мысль о том, что это тройственное разделение – лишь ошибка языковой формы. 7
Мне кажется, что при более внимательном рассмотрении этот источник ошибок не следует недооценивать, особенно с учетом того, что было сказано в предыдущем параграфе. Мы обозначаем объект перед собой совершенно непосредственно, намереваясь просто описать или обозначить его определенным словом. Поэтому, как учит нас повседневный опыт, слово, которое мы используем, вполне может уже содержать в себе суждение об объекте: суждение о его происхождении, о том, что мы должны от него ожидать, без того, чтобы мы осознавали это суждение. Оно не осуществляется нами как таковое, оно лишь подразумевается в смысле слова, которое инстинктивно представилось нам как наиболее подходящее обозначение данной вещи. Если бы «смысл» слова, которое мы используем, всегда был нам дан, то, конечно, мы должны были бы без лишних слов понять, в какой степени это слово действительно охватывает факты, которые мы хотим уловить, но мы уже знаем, что это не так. Поэтому требуется специальная рефлексия над этим значением, специальное рассмотрение, которое, так сказать, сначала сталкивает значение с данным фактом, чтобы определить, можно ли и в какой степени рассматривать слово как обозначение или описание данного. Если, например, меня спросят, что я «вижу» в данный момент, то есть что мне сразу дано как нечто видимое, я, конечно, сначала отвечу: мой стол. Но это доказывает лишь то, что мне дано нечто, что автоматически подсказывает мне это обозначение; если я хочу знать, действительно ли это было точное феноменологическое определение, которое я произнес, я должен спросить себя далее, не подразумевается ли в утверждении, что то, что я вижу здесь, есть мой стол, гораздо больше, чем простое обозначение, действительно ли выражение «мой стол здесь» может быть заменено в своем значении чем-то, что дано мне здесь, на моих глазах. И таким образом я, возможно, приду к выводу, что необходимо гораздо более сложное выражение, чтобы действительно назвать то, что здесь дано. Феноменологическое определение данного и наивное его описание – мы можем кратко резюмировать это – это toto coelo [абсолютно – wp] разные вещи.
6. Проблема общего
Теперь, когда в предыдущих параграфах было очерчено понятие «данности» и одновременно установлены условия, при которых только и можно говорить о данности факта в точном смысле, вернемся к вопросу: можно ли действительно довести до данности «смысл» всех используемых нами слов, т. е. можно ли каждому слову приписать данный факт, который мог бы заменить данное слово, который мог бы рассматриваться как факт, именем которого является это слово?
Я ставлю этот вопрос сразу же в связи с особой проблемой: проблемой общего. Соответствуют ли слова общего значения как таковые схватываемым объектам, объектам, которые мы можем привести к данному? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся со старой оппозицией концептуального номинализма и концептуального реализма или концептуализма. Номинализм всех оттенков – в этом его суть – утверждает, что общие понятия, общие объекты – это фикция, объекты, которые не существуют ни в каком смысле, ни как реальные, ни как идеальные, ни как физические, ни как психические, ни как независимые, ни как частичные объекты, сущности, которые поэтому не могут стать известными нам ни в какой форме, которые ни при каких обстоятельствах не могут существовать для нас как феноменальные факты. Теперь, поскольку на вопрос о значении слова можно окончательно ответить, лишь вызвав к жизни факт, именем которого это слово является, из этого следует, что общие слова как таковые вообще не имеют никакого значения, что они ничего не обозначают, что они – пустые слова, то есть звуки, «flatus locis»; любой способ говорить, который приписывает им значение, является простой фикцией. Остается ответить на вопрос: как могла возникнуть такая фикция, как мы стали использовать слова, которые, как нам кажется, соответствуют определенному, осязаемому объекту, с которым мы обращаемся так, как будто это так и есть, хотя на самом деле это не так. Именно в ответе на этот вопрос и расходятся различные номиналистические теории – средневековых номиналистов, Беркли, Юма. Если на вопрос о том, можем ли мы каким-либо образом привнести в реальность общие объекты как таковые, ответить отрицательно, то это означает, что мы стоим eo ipso на почве номинализма. С другой стороны, все концептуалистско-реалистические решения проблемы – от Платона до современных теоретиков объекта – как бы далеко они ни расходились, должны согласиться с тем, что общие понятия или объекты существуют в той или иной форме и существуют для нас, постигаемые нами, как феноменальные данности. Различные концептуалистские взгляды теперь снова расходятся в вопросе о том, как мы должны определить это существование и как мы должны определить это схватывание более детально. В основном здесь можно выделить четыре типично различных взгляда, которые мы называем взглядами Платона, Аристотеля, Локка и современных теоретиков объекта (Гуссерля и Мейнонга, которые независимо друг от друга пришли к, казалось бы, очень близким теориям).
Открытие «понятия» и, в данном случае, общего в противовес индивидуальному, как известно, является достижением Сократа, у которого его перенимает Платон. Хорошо известно, какое значение придает ему Платон, в какой степени понятие концепта находится в центре его философии. Когда в «Протагоре» обсуждается добродетель, а в «Теэтете» – знание, первое, что всегда говорится, – это не перечисление отдельных добродетелей, знаний или видов знания, а определение «добродетели» и «знания», не указание на разнообразие объектов, которые мы обозначаем как добродетели и знания, а признание единой сущности, с которой мы логически связываем их через это обозначение. Таким образом, изначально резко разделены: сумма, множественность, разнообразие индивидов и противоположное им единое общее, под которое мы их, говоря по-платоновски, включаем: в котором они участвуют – «человек» и неопределенно много похожих и одновременно разных индивидуальных человеческих существ. 8
Причина, по которой Платон придает такое особое значение различию между общим и индивидуальным, причина, по которой он всегда начинает с определения сущности общих, а не индивидуальных сущностей, очевидно, заключается в том, что он впервые осознал, возможно под влиянием сократовской мысли, связь между научным прозрением, проницательным пониманием, очевидным знанием истины, с одной стороны, и общим знанием – с другой; связь, которую Кант описывает, называя «всеобщность» и «необходимость» в знании взаимозаменяемыми понятиями. Поднявшись над результатом, который дает нам фактическое измерение суммы углов одного треугольника, и осознав, что для треугольника не обязательно, чтобы сумма углов была равна 2 R, мы поднимаемся от простой констатации факта, как это делает геодезист, к научной проницательности математика. И это осознание того, что научное познание истины всегда связано с общим (которое он, очевидно, впервые увидел в математике), становится особенно важным для Платона, поскольку открывает ему путь к победе над его главным противником, скептицизмом софистов. Безудержный скептицизм софистов завершается предложением, что не существует истины, которая была бы действительна для всех людей. Мы окунаем обе руки в одну и ту же воду, и она кажется одной руке холодной, а другой теплой – как нет смысла рукам спорить о том, кто из них прав, так нет смысла двум людям спорить о своих мыслях, о том, кто из них представляет себе истину, а кто – ложь; для каждого из них его мысль истинна.
Здесь нет убеждения, доказательства или опровержения, а есть только убеждение, то есть попытка с помощью искусства речи (которому софисты намереваются научить) убедить собеседника принять свои идеи вместо его собственных. Платон стремится опровергнуть этот скептицизм, подхватывая то, что верно в аргументах и примерах софистов, и отделяя их от ложных выводов: Однако там, где речь идет только об отдельных единичных сущностях, нет универсальной истины, нет познания, а есть только воображение, мышление, ибо единичное есть нечто возникающее и исчезающее, нечто постоянно меняющееся, различное в зависимости от того, как его рассматривают, как показывают и примеры софистов, – как же то, что никогда нельзя постичь в строгом тождестве, может быть действительным, вечным и действительным для всех, как того требует идея истины? Пока софисты правы, но единичным и индивидуальным объектам противопоставляются общие понятия, которые не возникают и не исчезают, которые по самой своей природе удалены от изменений, каждое из которых противостоит множественности изменяющихся индивидов как Единое, остающееся неизменным. Отдельный человек – это сначала ребенок, потом юноша, потом мужчина и старик; поэтому ни одно из этих определений мы не можем отнести к нему как действительно действительное, он в одном отношении сын, в другом в то же время отец, поэтому к нему применимы противоречивые определения. С другой стороны, понятие «ребенок» никогда не может стать понятием «старик», тогда как понятия «отец» и «сын» всегда находятся в фиксированном отношении друг к другу. Единая вещь может стать из одной двумя, тремя и более: стоит только разбить ее, и она в одно и то же время едина и множественна, ибо включает части в себя; с другой стороны, число 1 никогда не может стать числом 2, но между ними существует неизменное математическое отношение. Вот почему по отношению к общим понятиям существует то, чего нет по отношению к отдельным вещам: строго достоверная истина и знание. Это познание относится именно к неизменным отношениям, существующим между понятиями, к систематическому порядку понятийной системы. Разумеется, то, что относится к понятиям, косвенно переносится и на индивидов, поскольку индивиды участвуют в понятиях, поскольку они подпадают под понятия, то, что относится к понятиям, относится и к ним: поскольку человек – ребенок, он не старик, поскольку вещь одна, она не большинство, и так далее.
Путь к познанию истины, отрицаемый софистами, – это путь к общим понятиям. Общие же понятия образуют целостный мир вечных и неизменных предметов, которые существуют сами по себе, то есть не в отдельных вещах, а отдельно от них и только в логическом отношении к ним. Как же постичь эти объекты? Нетрудно заметить, что по мере того, как Платон подходит к этому вопросу, «идеи» начинают очень близко подходить к отдельным вещам по способу их существования. Мы не «видим» человека, как мы видим отдельных людей, но мы постигаем его, мысля в лице отдельного человека. Это схватывание, однако, теперь описывается как воспоминание: вид отдельного человека вызывает во мне воспоминание об идее человека. Но мы можем вспомнить только то, что видели и видели раньше, поэтому в предсуществовании мы должны были жить в мире идей и видеть этот мир так же, как мы живем сейчас в мире физических вещей.
У нас, как я только что сказал, сразу же возникает впечатление, что с этим поворотом в метафизику сам характер логически-всеобщего в идеях определенным образом разрушается, что они сами становятся чем-то индивидуальным. Причину этого легко увидеть. Все, что существует в определенное время, «hic et nunc» [здесь и сейчас – wp], является в то же время индивидуальным. Мы можем приписать ему общее понятие, в которое мы можем мысленно включить все качественные определения этого индивида, и если мы представим себе один и тот же объект – что мы можем сделать в любой момент – как существующий в другое время, то эти два объекта представляют собой два воплощения одного и того же понятия. Поэтому всеобщее должно мыслиться как то, что по своей природе не существует ни сейчас, ни в другое время; как только мы говорим о чем-то, что привязано таким образом к моменту времени, мы уже находимся рядом с индивидуальным. Поэтому всеобщее должно мыслиться как вневременное – но метафизическая доктрина идей Платона превращает эту вневременность в вечное существование в смысле вечного бытия. Но то, что существует всегда, существует и в определенное время. Таким образом, всеобщее превращается из вневременного идеала во временно-реальное и, следовательно, в индивидуальную сущность. Последняя причина этого, однако, очевидна: идеи должны быть постигаемыми объектами, но Платон может представить себе это постижение только по аналогии с восприятием отдельных вещей. 9
При превращении «красного» в некое индивидуальное существо рядом с индивидуальным красным, «человека» – в некое реальное существо рядом с индивидуальным человеком возникли известные трудности, о которых говорит Аристотель в своей «Критике». Кроме того, были особые неудобства, вытекающие из платоновского метафизического поворота вещей, из того, что Идеи должны были не только составлять мир наряду с миром индивидов, но в конечном счете единственный реальный и истинный мир, в то же время и действительный объект познания. Конечно, вещи должны участвовать в Идеях – но что следует понимать под этим «участием»? Так Платон подводит нас к аристотелевскому решению проблемы общего.
Аристотель сначала обижается на метафизический выход за пределы мира идей, который кажется ему излишним дублированием реальности. Поэтому он переносит общее на индивидуальные вещи. «Человек» не существует как особое существо вне индивидуального человеческого существа. Но в каждом отдельном человеке мы можем различить две вещи: чисто индивидуальные черты, отличающие его от других людей, и общие человеческие черты, которые он имеет с другими и которые делают его человеком. Олицетворением всех этих общих черт в каждом человеческом индивиде является человек, то есть универсальный человек, «человечество» в общем абстрактном смысле. Однако вслед за Платоном Аристотель придает этой идее особый поворот. Только по отношению к общепонятному, учил Платон, существует научное понимание, существуют связи необходимости, строго обоснованная истина; чисто индивидуальное, напротив, является случайным, не поддающимся научному определению. Таким образом, мир идей становится реальной действительностью, а мир индивида – лишь видимостью. Аристотель сохраняет это привилегированное положение общего для научного осознания истины (а также для опровержения основанной на ней софистики), а значит, и для основанных на ней следствий. Таким образом, общее в человеке становится в то же время подлинным ядром его бытия, вокруг которого «случайные», сугубо индивидуальные детерминации лежат как внешняя оболочка. Человек прежде всего человек – в этом выражается его внутренняя сущность, к которой индивидуальные характеристики добавляются лишь как реальность второго порядка. Таким образом, Аристотель считает, что он усовершенствовал платоновскую доктрину и в то же время сохранил то, что в ней на самом деле верно. Общие предметы не становятся особой метафизической реальностью вне индивидуальных вещей, а индивидуальные вещи не сводятся к простому иллюзорному миру, а остаются единственной реальностью. С другой стороны, как учил Платон, общее остается единственным объектом истинного знания и, следовательно, актуально реальным: ведь в индивидуальном мы должны различать истинную сущность и случайные придатки, и это различие совпадает с различием общего понятия и индивидуальных особенностей. Наконец, неопределимое «участие» вещей в идеях, как кажется, заменяется более четким представлением об отношении между индивидом и общим понятием, поскольку общее становится (абстрактной) частью индивида, той частью, которая повторяется идентично в разных индивидах.
Для Аристотеля общие объекты, таким образом, непосредственно постижимы, столь же постижимы, как и индивиды, поскольку они постигаются в них через абстрагирование от чисто индивидуальных компонентов. Устойчива ли эта доктрина и действительно ли она устраняет трудности платоновского взгляда? Как бы очевидно это ни казалось, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Если универсальное должно существовать в каком-либо смысле, оно, как справедливо подчеркивал Платон, должно быть единым и тождественным, в отличие от неопределенного множества индивидов. «Человек» един в отличие от множества индивидуальных человеческих существ и т. д. И если все индивидуальное определяется временем и, возможно, местом, то каждый отдельный человек находится в определенное время и в определенном месте, «человек» – это нечто вневременное, без «hic» и «nunc». Вот передо мной два человека, я абстрагируюсь от их индивидуальных черт, фокусируюсь только на том, что их объединяет, – превращает ли это этих двух людей в единое, идентичное существо? Выражение «мы обращаем внимание на то, что у нас есть общего» не должно вводить в заблуждение, потому что эта «общность» – не тождество, а одинаковость, в одном можно найти те же черты, что и в другом, и я обращаю на них внимание, но одинаковость – это не тождество, напротив, она предполагает двойственность. Я смотрю на два синих цвета в отношении того, что в них одинаково; однако эти идентичные абстрактные моменты становятся чем-то идентичным лишь постольку, поскольку они «одинаково синие», то есть принадлежат к одному и тому же роду. Таким образом, мы говорим о тождестве не на основе одной лишь абстракции, а только тогда, когда две тождественные сущности подведены под общее понятие, так что то, что абстрактно выделено как таковое, еще не является общим, даже если признать, что абстрактное выделение тождественных моментов находится в определенном отношении к подведению данных индивидов под одно и то же понятие, что, точнее говоря, мы подчиняем различные индивиды одному и тому же общему понятию только там, где находим такие тождественные компоненты. Следует особо подчеркнуть, что даже если мы игнорируем пространственно-временную позицию объекта, индивидуальный объект не становится общим объектом. Если я игнорирую тот факт, что вещь существует здесь и сейчас, если я не обращаю внимания на ее пространственно-временную определенность, это означает, что я игнорирую конкретную пространственно-временную позицию, в которой она находится, я могу мысленно переместить ее в любую другую позицию, я могу оставить ее пространственно-временную позицию совершенно неопределенной – но это не означает, что она становится вневременной сущностью: она становится вневременной сущностью, сущностью, которая по своей природе не существует в определенное время, чье существование не имеет ничего общего с реальным временем и реальным пространством, как это имеет место для «человека», для «треугольника», для «числа» «3» и т. д. словом, для каждого общего понятия. 10 11