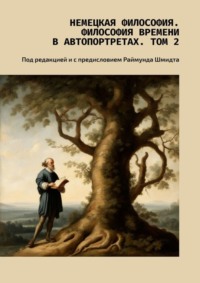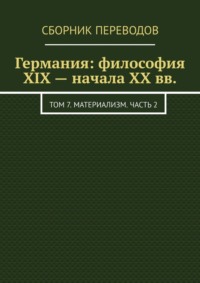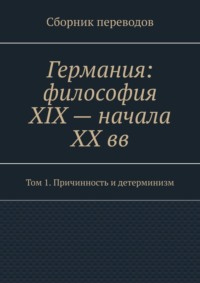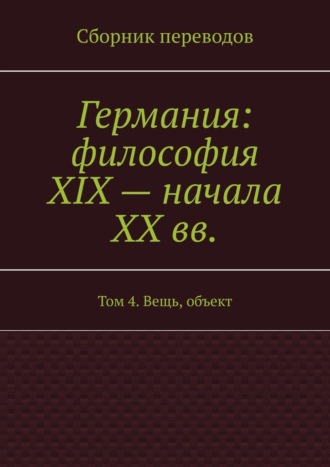
Полная версия
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 4. Вещь, объект
То же самое относится и к образу памяти. Образ памяти – это не только настоящее содержание сознания, которое имеет определенное сходство с прошлым, но оно имеет ту особенность, что в нем, с его помощью, мы вспоминаем именно то прошлое, осознаем его, что мы переживаем его, другими словами, как «образ», как представление прошлого. Если бы было иначе, мы не могли бы ничего знать о сходстве образа памяти с прежним содержанием, потому что прошлое содержание – это прошлое, мы не можем его вызвать и поставить рядом с образом памяти для сравнения. Оно присутствует для нашего сознания и может быть постигнуто только через образ памяти, т. е. через то, что образ памяти есть не только единичный, отдельно существующий факт сознания, но факт, который в то же время открывается нам как представитель, как представление, как образ того другого, более раннего. Это последняя, не поддающаяся дальнейшему прослеживанию или объяснению особенность всех образов памяти – мы не можем иметь образ памяти, не осознавая в то же время, что этот образ памяти означает прошлое. Используя известное выражение Гуссерля, мы можем говорить о непосредственно переживаемой интенции образа памяти. Корнелиус, который особенно ярко подчеркивает эту особенность, называет образы памяти «естественными символами» и говорит об их «символической функции». Если бы факт этой символической функции не существовал для нашего сознания, мы бы не только ничего не знали о прошлом, но для нашего сознания вообще не существовало бы прошлого, было бы только настоящее; слово «прошлое» не имело бы для нас абсолютно никакого значения. По этой самой причине факт «символической функции» образов памяти не может быть прослежен или объяснен дальше; «объяснить» это означало бы прояснить, как образы памяти оказались в таком отношении к прошлому или как сознание прошлого могло быть связано с ними, но ответ на этот вопрос всегда предполагал бы существование какого-то сознания прошлого. 2
Благодаря посредничеству образа памяти я могу визуализировать нечто прошлое, то есть поместить его перед собой таким образом, чтобы я мог схватить его, узнать его, оценить его, как если бы он был непосредственно настоящим. Я хочу знать, был ли этот предмет больше или меньше, светлее или темнее другого, и я могу сравнить их в своей памяти. И это сравнение – сравнение, действительно проведенное перед лицом образа памяти, а не просто воспоминание о результате более раннего сравнения, проведенного перед самим объектом. Разумеется, мы можем узнать объект из воспоминания-образа и судить о нем по отношению к воспоминанию-образу лишь в той мере, в какой воспоминание-образ представляет, изображает, запечатлевает его; это обстоятельство особенно существенно в том отношении, что воспоминание-образ никогда не может иметь большей ясности, чем предшествующее перцептивное содержание.
Благодаря памяти-образу становится возможным, чтобы объект, который не дан нам непосредственно, был визуализирован таким образом, чтобы он был нам известен, узнаваем, сравним, назван, но дан опосредованно, через посредничество памяти-образа. Здесь тоже что-то дано непосредственно, а именно образ памяти, но есть особенность, что через эту непосредственно данную вещь мы можем узнать не только ее собственную природу, но и природу другого, именно прошлого и теперь вспоминаемого, и можем судить о ней, сравнивая и анализируя ее.
В то же время из этого можно заключить, в каком, но только в каком смысле, можно сказать, что в восприятии и в воспоминании этого самого факта нам дано «то же самое», «тот же самый объект». При правильном понимании это может означать только то, что в обоих случаях мы можем постичь и познать одну и ту же вещь, только в одном случае непосредственно, а в другом – опосредованно. Однако было бы неверно толковать это предложение в том смысле, что каждый раз нам непосредственно дается одна и та же вещь. Если иногда говорят, что в случае восприятия и памяти одна и та же вещь каждый раз «объективна» для нас, а разница заключается лишь в различных «актах» восприятия или памяти, которые относятся к этой цели, то такая форма выражения, по крайней мере, предполагает мнение, что здесь существует аналогичное отношение, как в случае, когда нам сначала нравится, а затем не нравится один и тот же звук, который мы слышим. Здесь непосредственно дан один и тот же объект, к которому одно за другим отсылают различные чувства. С другой стороны, с памятью и восприятием дело обстоит принципиально иначе, поскольку здесь одна и та же вещь не дается даже частично, а непосредственно даются разные вещи, только одна одновременно раскрывается как представление другой и в этом отношении как «одна и та же вещь». Наконец, как уже неоднократно упоминалось, к «фантазийным образам» применимо то же самое, что и к образам памяти. Если я сейчас попытаюсь представить в своем воображении внешность знакомого, которого я давно не видел и который, как я знаю, сильно изменился за это время, то я, конечно, не имею перед собой того, что я буду иметь, когда действительно увижу этого знакомого. Но передо мной есть образ, который представляет эту внешность, образ, который является или хочет быть образом этого будущего содержания. И в каждом фантастическом образе что-то воображается, что-то, что может или могло бы, по крайней мере, столкнуться со мной в другое время в непосредственной реальности, точно так же, как в каждом образе памяти что-то вспоминается, что-то, что когда-то было непосредственно дано мне. Таким образом, фантазийный образ также имеет символическую функцию по своей природе, что-то также косвенно дается мне в фантазийном образе.
Таким образом, мы можем различить два типа данности – косвенную и опосредованную через воображаемый образ (если мы обобщим память и фантазийные образы в этом термине). Теперь возникает вопрос: не существует ли других подобных типов данности? Не существует ли другого способа, с помощью которого объект, не являющийся непосредственно данным, может стать для нас известным, узнаваемым и оцениваемым, помимо посредничества концептуального образа?
Давайте подойдем к этому вопросу более специализированно. Бесспорно, что мы визуализируем далеко не все объекты, о которых говорим. Утверждения, звучащие тут и там и кажущиеся само собой разумеющимися, являются грубым нарушением фактов, которые самонаблюдение легко распознает как таковые; достаточно понаблюдать за тем, как мы читаем книгу и читаем ее с пониманием, чтобы увидеть, как мало сопутствующих фантазмов, мимолетных и бессмысленных. Тем не менее, мы что-то «подразумеваем» своими словами, и мы знаем, что мы под ними подразумеваем, мы думаем и «сознательно» направлены на что-то. И если мы «понимаем» слова книги, которую читаем, это также означает, что наше мышление направлено на определенные объекты. Мы знаем, о каких объектах здесь идет речь, без необходимости их визуализировать. Но когда объект становится нам известен, когда мы сознательно сосредотачиваемся на нем, это, по-видимому, означает не что иное, как: он нам дан. Но это данное существование объекта, которое существует, когда мы только думаем о нем, когда мы нацелены на него со смыслом, не было бы опосредовано ярким концептуальным образом, так что здесь мы имели бы третий «вид» данного существования. 3
Полученные таким образом три типа можно в конечном счете охарактеризовать как три стадии визуализации, то есть данности объекта. Визуализируя что-либо, мы, так сказать, приближаемся к его непосредственной данности в большей степени, чем «просто» мысля его. Но как бы я ни отдалял «просто» знаковое значение от непосредственной данности, это различие остается в некотором роде различием степени.
Я полагаю, что таким образом я хотя бы схематично охарактеризовал точку зрения, которой, похоже, часто придерживаются в школе Бретано, Гуссерля и Мейнонга, более того, она считается само собой разумеющейся. Меня не волнуют здесь ни конкретные формулировки, которые используются, ни более точные различия, которые делаются.
Каким бы правдоподобным ни казался вышеупомянутый подход, при ближайшем рассмотрении он, на мой взгляд, оказывается несовершенным.
Когда мы описывали присутствие объекта через образ памяти как косвенное присутствие объекта, мы делали это потому, что в случае яркого воспоминания здесь присутствует нечто, что мы находим и в случае прямого присутствия: а именно, определенный факт становится известным нам таким образом, что мы можем направить на него наше познание, проанализировать его, исследовать его природу, сравнить его, отличить его. Впервые, предположим, я спрашиваю себя, одинаковой или разной высоты три ворот знаменитых Ворот Победы в Мюнхене. Я могу ответить на этот вопрос, стоя перед Воротами Победы и сравнивая их. Но я также могу с такой же уверенностью провести это сравнение, используя свой образ памяти, при условии, что мой образ памяти содержит рассматриваемые части достаточно четко, чтобы их можно было представить (точно так же я могу судить о воспринимаемых воротах Победы только в той степени, в какой воспринимаются и оцениваемые части; если ворота расплываются перед глазами, потому что я стою слишком далеко, я также не могу судить об их относительной высоте).
Впоследствии я могу знакомиться с ранее увиденными фактами по образу памяти. Возможно ли то же самое, если я теперь «мыслю объект невизуализированным образом»? Есть ли у меня тогда перед глазами нечто, к чему я могу обратиться в плане суждения, сравнения и узнавания? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.
Конечно, я могу выносить суждения об объектах, не визуализируя их, могу сразу и непосредственно говорить о вещах всевозможные вещи, отвечать на вопросы, не обращаясь к визуальной основе. Но эти суждения никогда не являются, в том смысле, в каком они делаются, полученными по отношению к самим фактам, считанными с них, как это возможно, когда объект стоит передо мной непосредственно или как запомненный или воображаемый; скорее, они являются выражением знания, которое человек, выносящий суждение, уже получил ранее, получил от самого объекта. По этой самой причине они могут нести в себе самую большую мыслимую силу убеждения (когда не хватает самоочевидной убежденности, это как раз повод для нас вернуться к наблюдению), но они никогда не обладают «доказательством», которым обладает суждение, которое для нашего сознания основано на самом объекте, поскольку считывается с него, и которым оно обладает лишь в той мере, в какой это так.
Подведем краткий итог: в случае понимания слова без сопутствующей визуализации, простого «думания» об объекте, нет ничего, что могло бы заменить сам объект для нашего познания так, как это происходит в случае воспоминания и фантазийного образа. Нет ничего, что представляло бы предполагаемый объект в том смысле, в котором этот термин обсуждался и использовался ранее, есть только нечто – слово, знак, – что его представляет. Именно поэтому мы не должны говорить здесь о «данности», если хотим сохранить наше значение этого термина. Напротив, «быть данным» и «быть мыслимым» остаются типичными противоположностями. По этой самой причине с каждым словом, которое мы слышим или используем сами (в разговоре или во «внутренней» речи), мы можем задать вопрос, что здесь имеется в виду, и на этот вопрос можно окончательно ответить только тогда, когда данное заняло место означаемого. Да, можно сказать и наоборот: объект А дан нам тогда и только тогда, когда перед нами есть нечто, на что нам достаточно взглянуть, чтобы полностью и окончательно ответить на вопрос, что подразумевается под словом А. Против сказанного здесь можно выдвинуть возражения, которые я рассмотрю подробнее, чтобы не допустить неправильного понимания смысла утверждения. Говорят, что если мы используем слово осмысленно, то есть не попугайничаем, то у нас есть или должно быть осознание его значения. Разумеется, против такого способа выражения, который я сам использовал выше, возразить нечего. Но теперь мы говорим, что эта обычная и понятная манера говорить не может означать ничего другого, кроме того, что мы сознательно постигаем этот смысл в данный момент и имеем его перед собой, нацелены на него и смотрим на него, даже если не в ярком представлении. Заметим: объявляется невозможным, чтобы это выражение означало что-либо иное. Чтобы отвергнуть это возражение, я должен указать на другую возможность.
Прежде всего напомню вам о двойном значении, которое мы связываем с родственным термином, словом «знание». Я сейчас думаю об опыте, который был у меня год назад, я помню этот опыт, он присутствует в моем «знании». Но я также «знал» об этом опыте час назад, четыре недели назад, в то время, когда я был занят совершенно другими вещами. И поэтому даже в этот момент я знаю тысячу вещей, о которых в данный момент совершенно не подозреваю. Каждый знаком с этим разным употреблением слова «знание» и знает, что оно означает: под «знанием» мы понимаем, с одной стороны, осознанную визуализацию, присутствие, воплощение в реальность, а с другой – «потенциальное» знание, предрасположенность, духовное обладание. Я «знаю» все, чему мне не нужно учиться заново, но могу в любой момент взять из своей памяти то, что моя память дает мне, когда я в этом нуждаюсь. Возможно, тот же двойной смысл повторяется в понятии «сознание», что мы также должны различать актуальное и потенциальное сознание. Понимать значение слова, осознавать его, значит не только визуализировать его, но и нести его определенным образом в себе, иметь его мысленно готовым, уметь его представить. Разумеется, это наличие под рукой, доступность, способность представить его должно отличаться от просто потенциального знания, которое я использовал в качестве примера – мы, очевидно, не делаем различия между ними без веских причин, «сознание», понимаемое как диспозиция, должно было бы охватывать лишь часть того, что охватывает наше «знание». И более того: если мы называем такую диспозицию не просто «знанием», а «сознанием» вещи, то она, очевидно, должна находиться в более близком отношении к действительному «сознанию», т. е. к реализованному и «данному» в данный момент. Чтобы выполнить это требование, зафиксируем мысль более точно: в данный момент я имею всевозможные знания, исторические, научные, технические и т. д, в большом количестве, которые не имеют никакого отношения к тому, что я сейчас представляю; но в моем распоряжении есть и другие знания, тесно связанные с тем, чем я сейчас занимаюсь, и существование этих знаний одновременно определенным образом проявляет себя в моем опыте, выбрасывает в сознание «рефлекс» в виде разного рода переживаний, например, эмоциональных. Давайте сразу же рассмотрим тот случай, который нас здесь в первую очередь интересует, – понимание слов с этой точки зрения: слово, значение которого нам известно, представляется нам иным, чем незнакомое слово чужого языка, оно кажется знакомым или, лучше сказать, привычным, знакомым, само собой разумеющимся.
Наша способность визуализировать его значение открывается нам, дает о себе знать в этом эмоциональном характере, в том, как слово предстает перед нами – и в этом смысле можно сказать, что мы становимся «сознательными» в отношении нашего знания, не того, что оно содержит, а того, что оно существует, в этом чувстве. Кроме того, слово часто может иметь для нас более конкретный эмоциональный характер, и этот эмоциональный характер может во многом определяться смыслом слова, сферой, в которой оно используется. Вспомните такие слова, как «знаменитый» и «печально известный», подумайте о том, как одно слово может заставить вас перенестись в определенную ситуацию, подумайте о мистической магии, которая окружает некоторые слова, о манящем и пугающем свойстве, которое скрывается в других словах. Такое ощущение, конечно, не является значением данного слова, поэтому нельзя сказать, что значение слова передается нам в этом ощущении – чувство благоговейного трепета, которое человек связывает со словом «религия», не является значением, которое он связывает с этим словом. Но мы можем сказать, что он связывает с этим словом некий смысл, очень определенный смысл, который раскрывается в появлении этого чувства, которое оно в него вселяет, и в этом смысле чувство есть «осознание» этого смысла, а также того факта, что слушающий или говорящий знает этот смысл, имеет его наготове. 4
Теперь кто-то возразит и против этого. Либо, скажут они, этот рефлекс сознания, назовем ли мы его чувством, состоянием сознания или чем-то еще, есть просто фактический эффект этой диспозиции знания и его конкретного содержания. Тогда он может быть, самое большее, признаком нашей способности воспроизводить смысл слова в сознательных представлениях; признаком, из которого мы должны были бы вывести эту способность, то есть наше знание в этом отношении. Однако на самом деле мы не нуждаемся в умозаключении, чтобы понять, понимаем ли мы слово или нет, употребляем ли мы его со смыслом или без, но сразу же ясно осознаем его. Поэтому, по-видимому, остается только другая возможность, что рассматриваемое чувство не является таким просто фактическим эффектом, но что в нем мы осознаем в более узком смысле, что мы подразумеваем под словом нечто и именно эту вещь. Но тогда мы попадаем на старое место, ибо тогда в ощущении должно быть сознание «этого», т. е. означаемого объекта, который сам по себе не может быть просто диспозицией. Иными словами, придется признать, что с пониманием-слушанием слова связано некое данное существование означаемого объекта. Но эта альтернатива ошибочна. Если нас спросят, понимаем ли мы слово, которое нам знакомо и хорошо известно, знаем ли мы его значение, мы, конечно, прямо и с полной убежденностью ответим на этот вопрос утвердительно, мы не выводим наше знание из того, что слово кажется нам знакомым, – в этом не может быть никаких сомнений. Поэтому, если смотреть объективно и логически, такой вывод можно сделать. Это ощущение знакомости имеет автоматическое следствие, а именно то, что мы относимся к слову как к известному, знакомому, а значит, и понятному, и поэтому на вопрос о том, связываем ли мы с ним значение, мы сразу же отвечаем «да» в слепой убежденности. Точно так же, как на вопрос о том, можем ли мы сейчас прочесть определенное стихотворение, которое мы выучили в прошлом, мы сразу же отвечаем «да», не задумываясь об этом, из непосредственного чувства. Хотя мы, очевидно, не делаем сознательных выводов, но, с точки зрения логики, вывод есть: вывод от настоящего опыта к будущей реализации. Так и здесь: я могу узнать, действительно ли я знаю значение слова, только попытавшись его визуализировать. И не так уж редко, когда нас спрашивают, знаем ли мы значение термина, предложения и т. д., мы сначала отвечаем утвердительно, а затем терпим кораблекрушение, когда пытаемся представить себе значение – и тогда нам приходится признать, что первоначальное убеждение было неверным, что «да» было основано на ложном выводе. 5
Возможны еще два возражения. Первое: если предположить, что мы осознаем значение слова в ярких представлениях, то мы осознаем, что именно то, что мы сейчас представляем, и есть объект, обозначенный этим словом. Я говорю о Бранденбургских воротах, и теперь я внутренне вижу их перед собой и знаю: это и есть «Бранденбургские ворота», то, что обозначается этим словом. Но как может возникнуть это осознание, если не на основе некоего сравнения между тем, что я подразумеваю под словом, что я думаю под ним, и тем, что я вижу перед собой внутренне? Перефразируя Гуссерля, я переживаю «исполнение» своего намерения, связанного со словом, я переживаю тождество того, что я имею в виду, с тем, что я теперь вижу внутри себя. Для этого, однако, я должен иметь перед собой означаемое или мыслимое как таковое, оно должно быть дано мне как означаемое. Однако и этот аргумент я не могу признать: По моему мнению, то, что я переживаю в этом случае, не есть тождественное совпадение двух объектов, один из которых воображаемый, а другой просто мыслимый, а просто своеобразное отношение между словом (звуком) и воображаемым фактом: я переживаю слово как название этого факта. В утверждении, конечно, что слово действительно является именем этого воображаемого объекта (или даже только тем, что оно является для меня этим именем), есть еще нечто, что выходит за пределы этих реляционных переживаний и, строго говоря, требует специального рассмотрения на основе ретроспективного опыта, а именно мысль, что во всех случаях, когда я использовал слово, оно происходило в этом смысле, т. е. могло быть заменено этим воображаемым содержанием. Во-вторых, мы недаром говорим, что можем «обращать внимание» на «смысл» слова и на его «звучание». Как это возможно, если смысл как таковой не задан? И здесь я хотел бы напомнить вам о соответствующих случаях, чтобы прояснить ситуацию. Бывает, что форма предмета, которым мы долгое время пользовались, вдруг «бросается» нам в глаза как необычная. Мы часто видели этот предмет, но никогда не обращали внимания на форму, то есть не останавливались на ней, всегда воспринимали ее как должное и использовали предмет только так, как ему подобает. Точно так же звук слова может поразить нас однажды, мы можем остановиться на нем, тогда как до сих пор мы лишь «обращали внимание на смысл», то есть просто пользовались словом, просто предоставляли себя его ассоциативному руководству». —
Я еще раз подчеркиваю: в мои намерения не входило немедленно доказать истинность предложенной здесь теории, а лишь доказать, что она возможна. Это было сделано для того, чтобы ответить на возражение, что когда мы говорим о сознании значения слова, это не может означать ничего другого, кроме определенного вида данного существования этого значения. С другой стороны, следует убедительно показать, что такой способ говорить в любом случае несостоятелен, если мы придерживаемся понятия «данности», которое мы сформировали в связи с непосредственной данностью и фактами памяти и воображения. Высказывание о том, что мы «сознаем» значение наших слов, даже не представляя себе их объект, может, следовательно, иметь приемлемый смысл, если мы понимаем это «сознание» как «знание», подобно тому как мы обычно говорим о таком знании как о предрасположенности, способности, только как о «знании», которое проявляется и раскрывается сознанию в определенных характерных переживаниях. Само это понятие «знания», конечно, еще требует эпистемологического прояснения, к которому я должен обратиться позже. В разных случаях утверждалось, что более поздние экспериментально-психологические исследования мышления, например, проведенные Мессером, Ахом, Бюлером и другими, также экспериментально доказали, что существует данное существование идеальных объектов в смысле Гуссерля, что существуют гуссерлевские акты и т. д. как постижимый факт сознания. В противовес этому я должен, помимо вышеупомянутых замечаний, вернуться к моей уже упомянутой работе в т. 49 «Zeitschrift für Psychologie». Мне нечего опровергать из того, что я там сказал, я лишь ссылаюсь на появившуюся за это время критику Титченера экспериментов Бьюлера и Мессера. Сам Бьюлер считает, что я должен был экспериментально обосновать свою точку зрения о том, что переживания, наблюдаемые его испытуемыми, на самом деле были состояниями сознания, похожими на ощущения, а не непосредственно постигаемыми интенсиональными актами в его понимании. Но моя мысль, которую я хотел прежде всего выразить, состояла именно в том, что в таких экспериментах возможна двойная установка: установка на реальное описание и анализ данности и установка на объект, который просто «объявляют», как я его там называю, «наивно описывают», как я его называю в следующем разделе. В последнем случае это наивное описание, данное в записи (которое, конечно, само по себе не становится бесполезным), если оно должно быть использовано в смысле феноменологической констатации факта, все еще требует интерпретации самим психологом, который, конечно, должен в конечном счете основывать его на своих собственных наблюдениях. Теперь мне кажется более чем вероятным, исходя из результатов самого эксперимента, что испытуемые Бьюлера вели себя не наблюдательно, а информативно или наивно-описательно, тогда как единственными испытуемыми, которые действительно наблюдались, были, по сути, испытуемые Марбе, к которым я могу обоснованно обратиться за экспериментальным подтверждением своих взглядов. В то же время я согласен с Марбе и Дюрром в том, что действительно наблюдательное поведение испытуемых возможно только в том случае, если перед ними ставятся простые умственные задачи. 6
5. Феноменологическое описание и наивное описание
Могут ли все термины, которые мы используем осмысленно, быть определены через ссылку на данные факты? Может ли значение каждого слова, которое я использую, быть полностью сведено к данному?
Когда мы подходим к этому вопросу, очевидно, очень важному для эпистемологии, мы одновременно ставим перед собой очень общую задачу инвентаризации чисто данного как такового, задачу общей феноменологии, взятой в самом широком смысле этого слова.