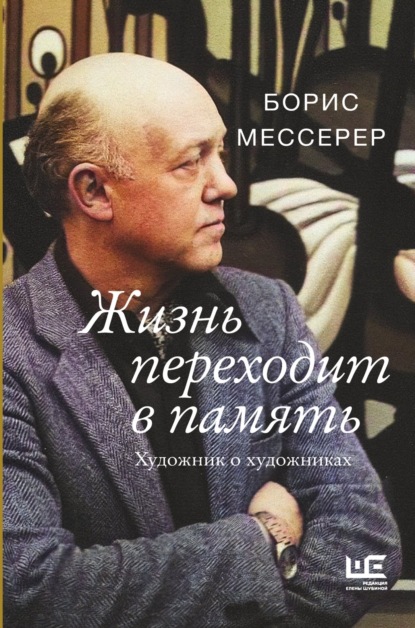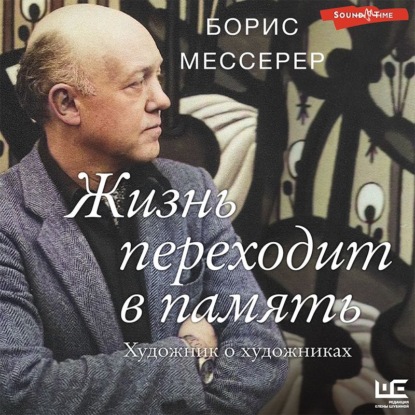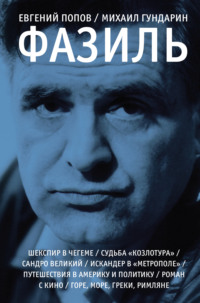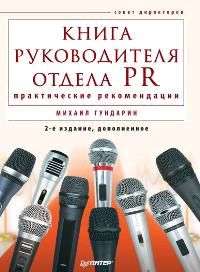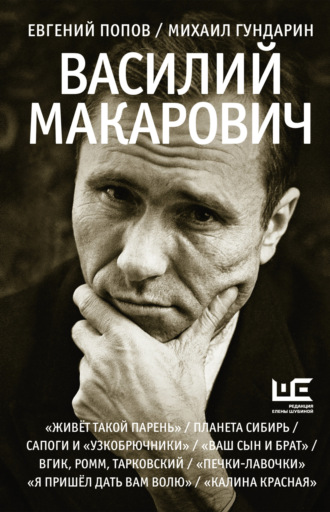
Полная версия
Василий Макарович
Е.П.: Тут замечу, что вряд ли этот эпизод был судьбоносным для Шукшина. К тому же, можно подумать, он только и делал, что стихи Симонова и «Рио-Риту» слушал, да в школьной самодеятельности играл! Нет: работал, как и все сельские дети.
С сестрой сидел. Со скотиной «управлялся». Хулиганил понемногу. Да и в колхозное поле работать выходил. Причём сам туда рвался, где хоть что-то платили, – жили-то очень скромно. А чему удивляться – война! Каждый кусок хлеба дорог.
Мать уговорила бригадира, и Василия взяли водовозом на табачную плантацию. Было ему тогда 12 или 13 лет. «Клопик сидит за бочкой, его прямо не видно. Гляжу на него, аж сердце заходится»[31], – вспоминала много лет спустя Мария Сергеевна. Василий никак не мог совладать с быком, на котором нужно было возить воду. А из-за этого и выработки никакой, трудодней мало:
Идёт, идёт по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул – бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.[32]
Однажды порвался хомут, Василий починил его, располосовав на ленты-верёвочки свою рубаху. «Вечером приходит домой, нагишом заходит», – вспоминала его тётка Вера Сергеевна Буркина.[33] Мать его, надо полагать, чуть не прибила – хомут-то хомутом, имущество колхозное, а носить больше нечего! Сама была не рада, что отдала Васеньку на поля. К счастью, бригадир привёз потом два метра ткани на новую рубаху.[34] На этом, в общем, карьера Шукшина-крестьянина и завершилась.
М.Г.: Интересно, что младший земляк Шукшина, Валерий Золотухин, вспоминал, как и его посылали водовозом в детстве подрабатывать, но он тоже учудил: заткнул дыру в бочке – полынью! Вода стала горькой, непригодной для питья. Мужики, мягко говоря, не обрадовались…
А что касается того быка, то немаловажно и то, что случилось дальше:
…забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку – неподалёку от избушки. Бык покорно шёл за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину… Я убежал из бригады, чтобы не слышать, как он заревёт. И всё-таки услышал, как он взревел – негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «Ой!». К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза… В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, пожалел он меня тогда, пожалел.
Мяса я не ел – не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться – такой «рубон» нечасто бывает.[35]
Не знаю, так ли было всё на самом деле, но здесь чувствительная душа видна вполне. А вместе с тем, удивительным образом, с этой «высокой» эмоцией соединяются ощущения подростка, который не может наесться вдоволь. Тем более, мяса! Но переживания – важнее желудка… Кстати, не эта ли особенность организма приведёт молодого Шукшина к тяжёлой язве?
Процитируем ещё одно описание летнего труда из цикла «Из детских лет Ивана Попова»:
Мы жнём с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15–16, он сидит «на машине» – на жнейке (у нас говорили – жатка). Я – гусевым. Гусевым – это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нём-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых – и, стало быть, машину – точно по срезу жнивья.
Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовёт руками к себе); сзади стоячей полосой остаётся висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя всё время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли – прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остаётся неподвижно висеть новая.
Жара жарой, но ещё смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб – сбивает стеблями ржи паутов с ног.
Е.П.: Но надо понимать, что Василий в юном возрасте не вкалывал до изнеможения с утра до ночи, а подрабатывал лишь летом. Как это делали и делают все дети всех времён и народов, при капитализме ли, при социализме ли. Городские – курьерами, например, деревенские – в поле. Я тоже лет до десяти ошивался около продовольственного магазина, где меня тётки за копейки нанимали играть роль «ребёнка» (с ребёнком тётке давали сахара в два раза больше нормы). Паспорт получил – грузчиком подрабатывал на макаронной фабрике. И не от хорошей жизни. Тяжёлая, надо сказать, была работа.
М.Г.: Пожалуй, более важными были другие эпизоды детства – например, ночная рыбалка, про которую автобиографический герой Шукшина вспоминает очень охотно, причём – как о первом именно мужском деле:
Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удручённым заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор… В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружьё и тугой, тяжёлый патронташ.
– Ну всё?
– Всё вроде…
– Давайте, а то поздно уже. Надо ещё с ночёвкой устроиться. Берись!
Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, – в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадёшь горячими губами, там надо вброд через протоку – по пояс… Да ещё сорвёшься с осклизлого валуна да с головой ухнешь… Хорошо именно то, что всё это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь…[36]
Есть возможность сравнивать: там, в поле, – своего рода развлечение, приключение; здесь – всё серьёзно: инициация, превращение в мужчину.
Е.П.: Были и менее легальные забавы. Пацаны – может, от голода, но, скорее, из озорства – лазили в чужие огороды: за огурцами, за ранетками в сад деда Зозули… «Другой раз подкараулит – всыплет. Не подкараулит – убежали»[37], – вспоминал друг Шукшина Вениамин Зяблицкий.
М.Г.: Ещё один эпизод описывает Сергей Тепляков в книге «Шукшин. Честная биография». Пацаны сделали налёт на пасеку. Причём якобы именно Василий придумал, как таскать рамки из улья, не приближаясь к нему, – в кузне выковали длинную металлическую трость, чтобы доставать их с безопасного расстояния. Он же и всё распланировал: кто открывает ульи, кто тащит рамки, кто караулит… С добычей мальчишки бросились к Катуни, кинули рамки в воду, чтобы пчёлы всплыли, – и начался пир! Но тут одна оставшаяся в рамке пчела укусила Веню Зяблицкого, другая – Василия… Щёки вздулись, глаза заплыли! И больно, и смешно, и мёду хочется… Потом друзья отсиживались на чердаке, ожидая, чтобы опухоль хоть немного сошла.
Е.П.: Судя по этим историям, при всей чувствительности и восприимчивости, характер у подростка был далеко не ангельский. И чем дальше, тем ядрёнее. С материнским норовом «ндрав» подростка сшибался, аж выбивая искру.
Характерен эпизод, когда десятилетний Шукшин, сопротивлявшийся переезду в Бийск, устроил такую штуку: демонстративно закурил, провоцируя отчима на агрессию. Дескать, даст тот мальчишке подзатыльник, он пожалуется матери, а мать отчима прогонит, раз ребёнка бьёт. Однако интересно и развитие ситуации: огорчившийся отчим обещал рассказать всё матери – и тут уж сам ребёнок взмолился этого не делать. Знал, что мать за такое его отстегает и не задумается. Но отчим – не рассказал.
М.Г.: Учился парнишка так себе. К школе никакого особого интереса не испытывал. Немногословный, смотрящий несколько исподлобья, но чувствительный и искренний троечник – вот его обобщённый образ глазами одноклассников и знакомых. Душой компании не был. Хулиганом тоже. Держался немного в стороне.
Но если требовалось – мог и проявить себя! Однажды свою ровесницу, уже упоминавшуюся нами Надежду Ядыкину, Шукшин спас из-под копыт табуна, который гнали по улице на водопой:
И тут мы слышим – гул, скачут, уже близко! Вася перебежал через улицу, толкнул меня в сугроб и сверху закрыл собой.[38]
Е.П.: При этом он много читал. Многие вспоминают, что постоянно ходил с книжкой, даже на поле ездил с ней – и читал во время коротких перерывов в работе. Читающий троечник в советской школе – это отнюдь не парадокс. Ну, не интересна, не нужна ему школьная программа. А к чтению – тянет. Нормально!
Однако с педагогической точки зрения Василий Макарович относился к чтению безобразно: проглатывал буквально всё, что под руку попадалось. Набор был дичайший. Читал, что вытащит с полки, всё подряд, «вплоть до трудов академика Лысенко».
Особенно поразительна история, где фигурирует ученик Шукшин и книжный шкаф, который выставили во время ремонта из класса, и был этот шкаф, если называть вещи своими именами, пытливым школьником взломан. Книги перекочевали к Васе на чердак. В конце концов пропажа обнаружилась. Сначала думали, что плотники извели книги на самокрутки. Плотники всё отрицали, но им никто не верил. Тут бы нашему герою выйти и во всём признаться, но нет – он такого не сделал, и этим – отнюдь не мучился: «Раньше всего другого, что значительно облегчает нашу жизнь, я научился врать», – так вспоминал о своём детстве Шукшин.
М.Г.: В общем, понятно, почему всполошилась мать. Как она сама вспоминала:
Появилась у Васи «болезнь» – увлёкся книгами. Всегда у него под ремень в брюках была книга подоткнута. <…> Читал и по ночам: карасину нальёт, в картошку фитилёчек вставит, под одеялом закроется и почитывает. Ведь, что думаете, – однажды одеяло прожёг. Стал неважно учиться, я тогда и вовсе запретила строго-настрого читать. <…> Так нет – стал из школьного шкапа брать тайно от меня. Ох, и помаялась я с ним, не знала уж, что и делать дальше, как отвадить от чтения-то![39]
С «карасином», кстати, помогал жилец, занимавший полдома, – секретарь райкома (некоторые утверждают, что он даже подарил Василию какую-то лампу типа коптилки – читай, мол, просвещайся).
За чтением не оставалось времени на учёбу. Пошли двойки и тройки… И Мария Сергеевна объявила чтению решительную войну: так, обнаружив тайник на чердаке, книги она просто сожгла! Годы спустя она говорила, что будто бы классный руководитель успокаивал её: «Не надо его ругать, пусть читает, у него – способности». Но, видно, не успокоил.
Но, кроме опасений за успеваемость, появились и довольно курьёзные страхи – о них вспоминает сестра Наталья:
Мама боялась, что он зачитается и «сойдёт с ума».[40]
Некоторые соседи говорили, что Вася может свихнуться от чтения – дескать, такие случаи были…[41]
Е.П.: Я тоже помню этот распространённый среди «простых людей» миф. «Зачитался!» – так определяли они причину психической болезни различных «умников».
М.Г.: Шукшин не сдавался, боролся с запретами как мог. Проявляя порой и «военную хитрость» – об этом рассказывает сестра Наталья:
Все его школьные учебники были без корочек. Когда мы были дома, он в эти корочки от учебников вкладывал художественную книжку, ставил её на стол и читал. Мы видели, что у него, например, «География», а через некоторое время он ставил перед собой «Историю» или «Арифметику».[42]
Но мать у Василия Макаровича, как мы уже знаем, была такова, что подобными методами её было не провести. Сергей Тепляков в своей биографии Шукшина описывает её «ответные меры» на хитрость сына:
Но Мария Сергеевна заметила, что он слишком скоро перелистывает страницы – разве так быстро задачи решаются? «Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на своё имя…» – вспоминал Шукшин.
<…> Потом Шукшин признавал её правоту: «Я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе».[43]
Помогла делу Анна Павловна Тиссаревская, учительница, из эвакуированных ленинградцев. Она составила список нужных и полезных книг. Василий смирился, вернее, принял новые правила игры. Мать, скрепя сердце, тоже пошла на компромисс – эти книжки хоть не вредные. Чтение продолжалось, но уже, к счастью, без академика Лысенко. (Тиссаревскую много позже разыщут в Питере краеведы, о Шукшине и списке книг она, увы, не вспомнит – мол, много у меня было таких пытливых мальчиков.)
Мемуаристы вспоминают о виденных у Шукшина книгах. «Таинственный остров» и «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, проза Лермонтова, «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда, «Алтайские робинзоны» Анны Киселёвой… Максим Горький, Островский, Некрасов, Достоевский и Гоголь – «толстые книги, такие теперь не издают».
Таковы странности нашей жизни. Фазиль Искандер зачитывается в Абхазии переведённым на русский Шекспиром, Аксёнов читает в Магадане запрещённого Мандельштама, – а сибиряку Василию Шукшину «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда не мешает поглощать Достоевского, Некрасова и Гоголя.
Е.П.: Кстати, в рассказах из цикла «Из детских лет Ивана Попова» есть поразительный фрагмент, «Гоголь и Райка». Рассказчик вспоминает, как читает зимней ночью вслух «Вия». Сестра заснула. Мать его прерывает – страшно. Страшно и ему самому, но он храбрится. И вот как реальная жизнь поправляет, корректирует вымысел:
– Ты не бойся, сынок, спи. Книжка она и есть книжка, выдумано всё. Кто он такой, Вий?
– Главный чёрт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.
– Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные, – ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..
– Так это же давно было! Может, он помер давно.
– Всё равно старики всё знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек… Тебе же дедушка рассказывает разные истории? – рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам…
Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеётся.
– Вот чего, – говорит она, – побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано – увидит, подберёт. А жалко – добрый навильник-то. Посидишь, ничего?
– Посижу, конечно,
– Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.
Мама торопливо собралась, ещё сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову – чтоб не думать про Вия.
Но дальше происходит такая трагедия, что куда там Гоголю. Их единственная, любимая корова Райка должна вот-вот отелиться. Рассказчик думает и о Гоголе, и о Райке. Реальность и вымысел путаются у него в голове. А ещё через какое-то время кто-то убьёт их корову – ткнёт вилами в живот. Чтение, литература оказываются рядом не только с «враньём», но и со смертью.
Мотив «Гоголь, Райка, вилы» возникает и в «Калине красной», где «откинувшийся» зэк Егор Прокудин рассказывает, с чего началась его «беда».
М.Г.: Книги книгами, но, начиная уже с двенадцати лет, Василий несколько раз уезжал из Сросток. Например, был непродолжительный опыт поездки по Чуйскому тракту в далёкий горный Онгудай – учиться на бухгалтера (а точнее, счетовода) к родственнику матери.
История эта прекрасно описана им в трагикомическом рассказе «Племянник главбуха». Там действует хулиганистый подросток Витька (персонаж более хулиганистый, чем сам Шукшин), которого отправляют на перевоспитание к дяде, а тот сажает его в контору, заставляя заниматься скучнейшими и нелепыми делами, вроде перемножения чисел… Характерно: Витька сильно скучает по матери, однако:
Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же – ездить на мельницу перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи… А мать со слезами (вот ещё не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: учёные шибко уж хорошо живут». Был у них сосед-врач Закревский Вадим Ильич, так этим врачом она все глаза протыкала Витьке: «Смотри, как живёт человек». Витька ненавидел сытого врача и одно время подумывал: не поджечь ли его большой дом?
Ну и Шукшин, уже от себя, признавал, что вся эта бухгалтерия пришлась лично ему, как и его персонажу, поперёк души.
Е.П.: Тем не менее, через пару лет он уже самостоятельно и совершенно добровольно отправится в Бийск, учиться в автомобильный техникум. И на этом его деревенское детство закончится. Ох, как ему (да и другим деревенским паренькам) придётся там непросто!
М.Г.: Читаешь его рассказ о техникуме из цикла про Ивана Попова – и, натурально, сердце кровью обливается. Воспоминания соучеников Шукшина по техникуму (он ушёл туда учиться из Сросток с компанией односельчан) добавляют, как говорит молодёжь, «жести».
Во-первых, их не приняли местные, «городские». Мы говорили, что с точки зрения географической и социальной Сростки никак нельзя считать «настоящей» деревней; в конце концов, сростинцы из техникума ходили домой в Сростки, в бане помыться, – пешком. Рядом! Но подростковая вражда типа «банда на банду» этого всего не учитывает – бывает, бьются насмерть две соседних улицы. Классика жанра: социальная наука разделения на «свой-чужой».
Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» (кто черти, так это, по-моему, – они) и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю и как-то лень узнавать. Наверно, тот же чёрт – рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаёшь и уже чувствуешь в себе кое-какую силёнку – она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлёсткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жарёнок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это-то – что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.
Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе – налегке – городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.
– Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?
– Сейчас раскошелитесь, черти! Всё вытряхнем!
– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!
Откуда она бралась, эта злость – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумлённые, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку – так бы пустил его вниз с горы.[44]
Е.П.: Велик соблазн предположить, что именно тогда у Шукшина и начало складываться противопоставление «деревня-город». Тоже по принципу «свой-чужой». Научили его бийские подростки, хоть спасибо им говори.
Алексей Варламов, автор одной из лучших биографий Шукшина, недавно рассказал мне то, что не успело войти в его книгу: в этом Бийском техникуме русскую литературу преподавал сосланный в мае 1944-го на Алтай член Союза писателей СССР, потрясающий поэт-фронтовик Давид Кугультинов, вся вина которого заключалась в том, что он по национальности – калмык. Вряд ли Шукшин запомнил его. Кугультинова в апреле 1945-го арестовали, он отсидел свою «десятку» в Норильске, но потом стал кумиром калмыцкого народа, калмыцким Пушкиным. Шукшин же техникум через два с половиной года бросил, а вскоре и вовсе Алтай покинул. А вдруг они всё-таки общались – поэт, принятый в союз перед войной, восемнадцати лет, и «книгочей» Шукшин? Мы этого теперь никогда не узна́ем.
М.Г.: А время было суровое – война только что кончилась… Вот что рассказывал соученик Шукшина Александр Борзенков (он же Шуя из процитированного выше рассказа):
В общаге было холодно. Спали на двухъярусных кроватях. Кто-то придумал бросить на второй ярус доски и застелить их тряпьём – получились полати, на которых спали вповалку, чтобы не замёрзнуть. Топили печку, за дровами ходили на Бию, по которой с верховьев к зиме гнали плоты. Разбирать их и таскать брёвна приходилось по колено или по пояс в воде.[45]
Не хватало еды. За еду кололи дрова учителям, убирали снег, топили бани.
Голодные были, как волчата. По карточке 600 граммов хлеба выдавали да в столовой трижды в день – мисочку баланды из гнилой картошки с капустой. А мы ведь росли.[46]
Сергей Тепляков упоминает яркий – словно из кинофильма! – эпизод из той голодной жизни мальчишек:
Как-то раз на реке разбило плот, на котором везли сыр. «Мы, прослышав об этом, – как тараканы, к берегу», – говорит Борзенков. На лодках и плотиках выбрались к месту крушения, цепляли сыр баграми, крючками, палками… Запасов хватило до апреля.[47]
Родные поддерживали их как могли – да откуда у них самих-то было взяться деньгам и даже продуктам! Мария Сергеевна продавала вещи. Пришлось продать даже гармонь, подаренную «настоящим» Иваном Поповым, – за пуд муки.
Не было одежды и обуви. Шукшин среди зимы остался без варежек, в фуфайке с короткими рукавами – и без развалившихся валенок… Александр Борзенков припомнил на этот счёт курьёзный случай:
Вечером, уже поздно, сидим у себя в комнате (у нас самая большая комната была, четырнадцать человек жили, и самая холодная), слышим, в коридоре – тук-тук. Чьи-то каблучки. Не иначе, думаем, дежурная учительница с проверкой. Они нас не забывали. Но вот открывается дверь и входит Василий. Глянули на него – мать честная! К рукавам фуфайки этакие приставки пришиты из красной шерстяной кофты, а на ногах – дамские войлочные боты на высоких каблуках! Мы за животики схватились![48]
Это учительница английского помогла, поделилась чем могла… Ну, что делать – обувь наладили, общими усилиями каблуки обрубили топором. В этих ботах и частях учительской кофты так и проходил Шукшин ту зиму. Вот картина была!
Вопрос: зачем ему было терпеть всё это, когда рядом Сростки, где всё же родной дом и без куска хлеба не останешься?
Е.П.: Что-то вело его, что-то выталкивало из деревенского уюта. Причём и мать в тот раз была против: она хотела, чтобы Василий учился, но в десятилетке, и жил дома.
Но вот что читаем в рассказе «Самолёт» из цикла про Ивана Попова – герой, первый раз попав в город, видит это чудо на аэродроме:
И так он нежданно открылся, этот самолётик, так близко стоял, и никого рядом не было – можно подойти и потрогать… Раньше нам приходилось – редко – видеть самолёт в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?! Где он?» Ах ты, Господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. <…> Он мне, этот самолёт, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолёта там не было – он летал. И теперь он стоит у меня в глазах – большой, лёгкий, красивый… Двукрылый красавец из далёкой-далёкой сказки.[49]
Самолёт тут, понятно, только метафора – полёта, высоты и так далее. Ради такой мечты можно было вытерпеть многое! И Шукшин – терпел.
М.Г.: Ну да. Только не дотерпел – из техникума-то его выгнали. Едва ли он этим был расстроен: учиться здесь ему было неинтересно. Физика-математика не давались (то-то он удивлялся, когда сестра пошла по этой стезе и закончила физмат). На уроках он, по собственному признанию, «петухом пел». В прямом смысле этого слова! С учителями отношения испортил, даже с той, что так помогла ему с одеждой…
Думаю, механиком или шофёром становиться ему расхотелось окончательно, а к городу он за это время присмотрелся – и кое-что в нём понял. Например, то, что прижиться там, или даже «покорить город», – ему, Василию, вполне по силам. Но – не через техникум.
Да и хорошо, может, что не доучился. Стал бы техником-механиком по ремонту и эксплуатации автотранспорта, работал бы, как все, на Чуйском тракте… Хотя в это верится с трудом. Нет: всё равно сбежал бы, рано или поздно.
Глава четвёртая
«На побывку едет молодой моряк»
Е.П.: Шукшин вернулся из техникума не солоно хлебавши – и почти сразу уехал снова. То есть: не столько обратно домой в деревню его тянуло, сколько Бийск, получается, оказался недостаточно велик и хорош для него. Как и стезя механика или шофёра – «тесновата кольчужка». Бог знает, откуда такая тяга к большему у деревенского паренька. Но именно тогда, в момент ухода из дома, она проявилась впервые, и потом – уже не покидала его никогда.