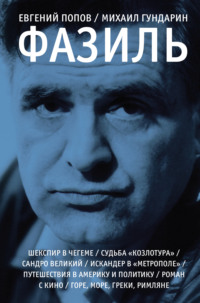Полная версия
Василий Макарович
М.Г.: У группы «Калинов мост» из недалёкого от шукшинских мест Новосибирска есть знаменитая песня примерно на эту же тему:
Не ищи меня мать, ушёл день обнимать.Ты прости меня, мать, – пропал ночь обнимать.Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома.Времена, когда мы навсегда уходили из дома…Но, замечу, что уходили все – по-разному. Вариант ухода молодого Шукшина был довольно радикальным. Он не просто уходил «день и ночь обнимать», но – покидал мать и младшую сестру, оставлял их без кормильца. Конечно, с расчётом на счастливое будущее, но если даже предположить, что он сам твёрдо верил в это будущее, шёл, так сказать, «за звездой», – то его мать и сестрёнка верить в это были не обязаны.
Однако Мария Сергеевна, похоже, действительно верила в сына, отчего и поддержала Василия. Если бы она упёрлась, настаивая на своём (а мы видели, что она умела это делать очень хорошо), – возможно, всё сложилось бы иначе. Более того: если бы она не выхлопотала тогда сыну паспорт, он бы и не смог никуда из Сросток деться.
Е.П.: А может быть, мы напрасно драматизируем? Ушёл из дома в 17 лет… Обычное дело! Двоюродный брат Шукшина, тот самый художник Иван Попов, покинул свой дом так же рано, попал на Дальний Восток, где работал после ремесленного училища на заводе. Я сам в 16 лет объехал во время каникул полстраны, путешествуя то в компании, то в одиночку, как придётся, порой совсем без денег, а в 17 лет направился в Москву, поступил в Геологоразведочный, тоже мать оставил (отца уже не было), и тоже всё было не так просто.
Всё равно Шукшин ушёл бы, пусть на пару лет позже – например, после армии, которая деревенских парней разбрасывала по всему огромному Союзу. Взял бы и завербовался на Север, где рубль был «длинный», о чём знала вся страна. Так делали многие выходцы из деревни, и не больно кто-то из них о своих деревенских родных думал в такой ситуации. Жизнь такова, что в родном гнезде не усидеть.
А вот история с паспортом – и правда удивительная. Тогда ведь у крестьян паспортов не было. Потому и армия, дающая документы, так ценилась.
М.Г.: Большинство исследователей сходится на том, что Мария Сергеевна, тогда работавшая парикмахером (ценный, редкий для села кадр!), как-то сумела обаять секретаря райкома, и тот помог Василию.
Е.П.: И Василий Макарович всю жизнь был благодарен матери за это.
В паспорте, кстати, он был записан как «Шукшин», а не Попов. Тоже не очень понятно, почему Василий сменил детскую фамилию. Вероятно, что «Поповым» он именовался со слов матери, а в метрике так и оставался Шукшиным. Поэтому никакого секрета и глубокого смысла в возвращении отцовской фамилии, возможно, и нет.
Нет, Шукшин – он и есть Шукшин. И именно с ударением на второй слог. По-сибирски-то ударять надо на первый, как и ударяли отродясь Шу́кшиных. Вроде как Па́ньшиных или Ве́кшиных. По-сибирски, а также по-мордовски, замечу, так и положено. Есть легенда, что на последний слог, вроде как на французский манер (Луи Сели́н, Андрей Маки́н, виконт де Бражело́н), Василий Макарович стал «ударяться» уже учась во ВГИКе, оказавшись среди столичной публики. А свои доармейские и армейские университеты проходил как Шу́кшин.
М.Г.: Воспоминания об уходе из дома остались у него на всю жизнь. Причём очень тяжёлые, даже травматические воспоминания:
Больно вспоминать. Мне шёл семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне ещё хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стёклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого, было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. И понимал, ей больно и тоже страшно, но ещё больней, видно, смотреть матери на голодных детей. Ещё там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушёл.[50]
Здесь, кстати, Василий Макарович как будто себя оправдывает – мол, уйдя, помог матери. Мы-то сейчас понимаем, что всё было не совсем так. Что он, уже не ребёнок, мог работать, зарабатывать, содержать семью. Семнадцать лет, большой парень, добытчик. Но – ушёл.
Е.П.: Мы понимаем – но не смеем осуждать. Нам, пусть на нас не сердятся традиционные «почвенники», дорог великий писатель земли русской Василий Шукшин, а не сростинский мужичок Василий Попов.
Да и мать пошла на эту жертву, повторим ещё раз, сознательно. Но мало было отпустить сына, нужно было дождаться его, или хотя бы вестей от него. А их не было несколько месяцев. Вот это – испытание для матери! Надо думать, костерила сама себя на чём свет стоит за то, что отпустила своего Васеньку в чужие люди.
Дошло до того, что сестра Василия Макаровича, Наталья, подделала письмо от сына к матери! Увидела у соседки письмо от её сына. Почерк был похож на Васин, да и содержание – подходящее: мол, простите, долго не писал, ждал общежитие, подпись, дата, адрес – город Черемхово. «Я обрадовалась такому письму: оно могло успокоить маму», – объясняла Наталья Макаровна. Она стащила письмо, запечатала его в конверт, на деревяшке для ниток вырезала «штемпель» с названием города и датой, шлёпнула «печать» и отнесла матери: «Она до слёз обрадовалась, читает, руки трясутся». Мария Сергеевна спросила, что за город Черемхово, Наталья соврала, что под Москвой; уже потом выяснила, что он – в Иркутской области… Но мать вроде поверила, успокоилась.
…Только через месяц пришло настоящее письмо от Василия. На штемпеле значилось – «Калуга».
М.Г.: Вполне обоснованный страх Марии Сергеевны насчёт чужих людей. Думаю, и сам Шукшин опасался, что может попасть – на самое дно. Он ведь говорил много лет спустя в одном из интервью:
Послевоенные годы. Кто повзрослее, тот помнит эти голодные годы… У нас, в Сибири, это было страшно. Люди расходились из деревень, попадали на большие дороги. И на больших дорогах ожидало всё этих людей, особенно молодых, несмышлёных, незрелые души… И пошли, значит, тюрьмы, пошли колонии…[51]
Е.П.: Да более того, ведь существует легенда, что и он таки попал в банду!
М.Г.: Такая уж красочная история, что надо её рассказать. Биограф Шукшина Владимир Коробов приводит полученное им в 1978 году письмо казанского профессора Бориса Никитчанова, который, будучи совсем молодым человеком, весной 1946 года повстречал на городском рынке в Казани одного необычного парня из шайки, промышлявшей воровством и грабежами, и тот объяснил ему причины своего нахождения среди преступников:
Я у них учусь играть, да и хороший литературный материал можно получить. Он так и сказал: «литературный материал», а я, помню, сильно поразился таким особенным, «писательским» словам. Но как это он «учится играть»? Видимо, на моём лице было недоумение, и он добавил:
– Да, я писатель, а впрочем, я не знаю ещё, кем буду. У меня, если хочешь знать, ещё и огромный талант артиста.
…Мы присели на кучу битой штукатурки, щепок, щебня. Парнишка стал развивать мысль о необходимости странствий, напомнил о моём земляке – волжанине А.М.Горьком и его «университетах».
– Откуда бы мог узнать так Горький о жизни Челкаша, вот ты скажи? – наседал он на меня. – Этого не напишешь, если сам не соприкоснёшься!
…А потом глянул на меня невыразимо ясными глазами и попросил тихо:
– Дай мне хоть сколько-нибудь, а то они мне не поверят.
Я молча достал три рубля и протянул ему. Он быстро сунул их в карман и зашептал:
– Я отдам тебе их, отдам, но, наверно, не скоро. Ты уж меня не осуждай…
– Кончай, писатель, паровоз уходит! – крикнул громко сухопарый верзила.
Мой знакомец сначала медленно, словно нехотя, стал отворачиваться от меня, а потом как-то быстро встряхнулся, и меня, помню, поразило его лицо – так оно сразу, в мгновение, переменилось. От меня уходил уже другой человек – гораздо взрослее, строже и надменнее того парнишки, который со мной только что разговаривал.
Шпана быстро удалялась, а он приостановился ещё, махнул мне рукой и почти выкрикнул:
– Шукшин моя фамилия, Василий Макарович, не забудь! Может, ещё услышишь…[52]
Е.П.: Как сказал бы Станиславский – «Не верю!». Красиво, но нереалистично. Слишком «литературно», вплоть до последней реплики: «может, ещё услышишь». И по хронологии – не подходит: тут про весну 1946-го, а покинул деревню Шукшин только в 1947 году.
Хотя понятно, откуда возникают подобные истории. Влияние популярнейшей у народа в те годы, не забытой и сейчас «Калины красной»: мол, знал Шукшин тех, с кого Егора Прокудина списал, лично! Потому таким живым, убедительными вышел герой! Но Прокудин в первую очередь всё-таки деревенский мужик, сын, муж, а уголовник – в третью или пятую. В этом его реалистичность. Вот его же коллеги по уголовному миру как раз не очень-то реалистично, почти китчево показаны, какая-то оперетка, «Свадьба в Малиновке», блатной рОман, несмотря на блестящую игру актёров, того же Георгия Буркова.
А главное, Шукшин действительно жил в мире, тесно соприкасавшемся с миром уголовного дна, обменивавшемся с ним персонами. Это мир неквалифицированных рабочих, мир бараков, которые в каком-то смысле ещё хуже лагерных – потому что из тех выпускают, а в этих можно всю жизнь провести… И с трудягами бок о бок жили настоящие уголовники, только что расконвоированные. Жёсткий, иерархичный мир советской армии и военно-морского флота, известный Шукшину тоже не понаслышке. Ну и деревенский мир – откуда уходили в блатные, куда возвращались из лагерей. Вполне достаточный опыт.
М.Г.: Кстати, в Бийской колонии для несовершеннолетних был прекрасный музей Шукшина. Угодившие на малолетку Василия Макаровича сильно ценили. Об этом писали корреспонденты газеты «Алтайская правда»:
Этот музей появился после памятной встречи, которая произошла у писателя с подростками, осуждёнными к лишению свободы, в 1967 году. Многие уверены, что в фильме «Калина красная» передано настроение, которое Шукшин почувствовал, общаясь с теми, кто отбывал наказание. Мальчишки из колонии участвовали в спектаклях по Шукшину. Месяц до чтений и месяц после вся колония разговаривала языком его персонажей. Ребята очень часто были и режиссёрами спектаклей.[53]
Е.П.: Кстати, с «блатными» Шукшин умел себя вести. Владимир Коробов приводит (со слов сценариста Игнатия Пономарёва) случай, когда Василий Макарович бесстрашно, быстро и ловко отшил урку, угрожавшего людям у пивного ларька, похвалявшегося, что он только что из заключения, и вымогавшего нагло кружки с пивом у мужиков. У него это так здорово получилось, что урка – здоровенный детина! – поспешил тут же извиниться и был таков.
М.Г.: Итак, в банду Василий Макарович всё же не попал, а работал в Подмосковье и недалёких от столицы городах, вроде Владимира или Калуги. Вот названия этих славных организаций: «СОЮЗПРОММЕХАНИЗАЦИЯ», ГОРЕМ-5 («Головной ремонтно-восстановительный поезд»)… С мая по август 1948 года трудился на строительстве электростанции на станции Щербинка Московско-Курской железной дороги.
Отсюда, из рабочих бараков, где молодые рабочие из деревень жили вперемежку со вчерашними зеками, он уже стал писать домой (пауза была то ли несколько месяцев, то ли вообще полгода!). Такая жизнь длилась два года. Стоило ли ради этого бросать родную деревню и Алтай!
Мы про этот период от самого Шукшина ничего узнать не сможем, но довольно красочную картину оставил в своих мемуарах Владимир Войнович, работавший неподалёку на аналогичной рабочей позиции несколькими годами позже. Его предприятие относилось к железной дороге, как и несколько шукшинских; по большей части они занимались разборкой старых путей. Думаю, контингент и условия труда были теми же, что и в «шукшинской конторе». На работу, даже на самую чёрную, в Подмосковье нельзя было устроиться человеку без подмосковной прописки. Войновичу, как до него Шукшину, повезло, что их предприятия были приписаны к другим регионам. Вот что он вспоминал:
«Путевой машинной станции ПМС-12 требуются путевые рабочие. Одинокие обеспечиваются общежитием». Я уже тысячи подобных объявлений прочитал и знал, что во всех случаях под одинокими, которые обеспечивались, имелись в виду в Москве москвичи, в области жители Подмосковья… Поехал по указанному адресу: платформа Панки. Там на ржавых, заросших травой запасных путях поезд: с десяток товарных вагонов-«телятников» и два пассажирских. И свершилось чудо, объяснимое тем, что ПМС эта самая была приписана к посёлку Рыбное Рязанской области, а здесь находилась якобы в командировке. В её задачу входил ремонт путей от Казанского вокзала до станции Раменское… Общежитием назывались те самые «телятники». Товарный вагон делился на две половины с тамбуром посередине. Справа и слева узкие клетушки, превращённые в купе с четырьмя полками, плитой, отапливаемой дровами, и полочкой у окна вместо стола. Одно такое купе занимали, естественно, четыре человека, каждый со всем своим имуществом, обычно помещавшимся в одном чемодане.
А вот кто работал в этой самой ПМС – Войнович приводит рассказ одной своей «сослуживицы»:
Я из колхоза убегла. Ну, надоело, ей-бо, надоело. Цельное лето с утра до ночи не разгибамши, карячиси, карячиси, трудодней тебе этих запишут тыщу, а как расчёт, так фигу под нос подведут, ты, говорят, на полевом стане питалась, шти с мясом лопала, кашу пшённую трескала, вот ещё и должная колхозу осталась, скажи спасибо, что не взыскуем. А зимой там же скучища. Клуб нетопленый, парней нет, все разбеглись. Девки с девками потопчутся под патефон, да и по домам, да на печь.[54]
Е.П.: Как-то пренебрежительно и не очень-то умело Войнович здесь, в мемуарах, передаёт сельскую речь! В ранней, практически «деревенской прозе», в повести «Мы здесь живём», напечатанной в 1961 году в «Новом мире», он относился к своим персонажам более бережно.
Шукшин бы так о «коллегах», какими бы они ни были, писать бы не стал. У нас есть тому доказательство – рассказ «Мечты». Изложенная от первого лица история молодого парня из деревни, тоскующего в городе на тяжёлой, скучной, грязной работе (как раз такой, какой был занят Шукшин после отъезда из Сросток) и пытающегося вместе с приятелем, таким же деревенским, найти хоть какую-то отдушину в этой беспросветности. Чтобы отдохнуть от набитого как сельди в бочке в бараках или телячьих вагонах «контингента», они ходят… на кладбище:
Скулила душа, тосковала: работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими, гоняли нас туда-сюда, обижали часто. Особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы – только что из деревни, хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие, – в недалёком прошлом – тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали, и всё время шпыняли нас: «Что, мать-перемать, неохота в колхозе работать?».
Вчерашние деревенские и далеко ещё не городские, застрявшие в промежутке, – излюбленная Шукшиным категория персонажей. Они и мучаются, и сами мучают. Он ведь и сам «застрял», и очень крепко!
М.Г.: От люмпен-пролетарской компании и колоритных соседей он в те два года, которые вынужден был обретаться среди них, пытался избавиться неоднократно. Например, два раза подавал заявления в военное училище. Кстати, в описании этого самого поступления-непоступления в военное училище сам Василий Макарович, как минимум, небрежен – очередной случай его мифотворчества, «жизнестроительства», игры в биографию. В автобиографии 1953 года Шукшин пишет: «В 1947 г. я был зачислен в военное училище, но по собственному желанию был отчислен», а в автобиографии 1966 года – что по дороге в училище потерял документы и «в училище явиться не посмел».
Е.П.: Так или иначе, но, думаю, он служить бы не стал всё равно. Он и срочную вон не дослужил: списали по болезни. Хотя, что характерно, все медосмотры находили его здоровым. Видно, испортил себе желудок ещё до армии, на чёрной пролетарской работе, а на флоте здоровье подорвал окончательно.
Вопрос: почему именно в военное училище он рвался, а не в институт? Ответ: у него ведь не было аттестата о среднем образовании, а в военные брали и таких. Конечно, можно было ради аттестата поучиться в вечерней школе, но, как видно, условия тяжёлой работы сделали это невозможным.
М.Г.: В общем, призыву на срочную службу Шукшин, полагаю, даже обрадовался. Ведь угроза застрять надолго, а то и на всю жизнь в малоквалифицированных работягах становилась реальностью. Так же, как до этого – в колхозниках. Нет: бежать, бежать оттуда!
Убежал. Попал во флот. Служил неплохо. Отмечен начальством. Но… Опять он оказался «дяревней»!
Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя чёрт знает где – далеко. <…> Служил действительную, как на грех, на флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки все в основном из городов, из больших городов, ну я помалкивал со своей деревней.[55]
Е.П.: И тут «деревня» ни к месту оказалась! Но, по крайней мере, матрос Шукшин за время своей недолгой службы много книжек прочитал. И в отпуск сходил, произведя на всех деревенских девиц – огромное впечатление. Настоящий фурор произвёл! В том числе – на свою будущую жену. Как же, бравый моряк! Из легендарного флотского Крыма!
Хоть и сухопутный крымский моряк, надо заметить, был Василий Макарович, – о чём, естественно, он особо не распространялся. Мария Сергеевна вон до конца жизни была уверена, что её сынок служил на крейсере, плавал по бурным морям, чуть там не погиб. (Это к слову об откровенности его рассказов матери.)
Но должен ведь кто-то и на берегу обеспечивать работу флота. Тем более, что служба радиста Шукшина отмечена благодарностями, он успел стать старшим матросом. Причём служил в секретной радиочасти, где и дисциплина, и требования, надо думать, были ого-го какими. Вахта – шесть часов, после чего двенадцать часов «отдыха», а точнее – политзанятия, учёба, хозяйственные работы, личное время (поспать-то надо), и снова вахта…
А он ведь ещё и «книжки читал» – что надо было умудриться успевать при таком жёстком графике службы. Причём читал не только беллетристику, но и учебники, так как очень хотел сдать экзамен за среднюю школу экстерном, что ему удалось сделать только после окончания службы. Наверстать сразу три класса – задача труднодостижимая. Поэтому – нервничал, мучал себя… Может, и от этого здоровье потерял.
М.Г.: Владимир Коробов пишет о его тогдашних ощущениях очень патетически:
Он чувствовал себя каким-то преступным растратчиком своего прежнего времени, строго судил себя за это и даже не пытался выслушать другой голос, который его вполне извинял, объяснял, что не он в том виноват, а жизнь так неудачно складывалась. Но Шукшин в этот период уже начал делать самого себя, был неумолим к себе и строг сверх меры.[56]
Иван Попов, родственник, друг, давший имя шукшинскому альтер эго, получил от него с флота очень гневное, ругательное письмо. Потом Василий Макарович объяснял двоюродному брату:
Да разозлился вдруг чего-то. Вместе росли, вместе коров пасли, а ты вон уже на художника учишься, а я всё ещё – ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Не столько на тебя, если разобраться, рассердился, сколько на себя…[57]
Что характерно: беспокоился он о других, что ушли далеко, догнать было трудно! А догнать хотелось. И – перегнать.
При этом служба во флоте дала Василию Макаровичу некое право чувствовать себя – настоящим мужчиной, главой семьи. И писать сестре и матери письма, полные очень пафосных нравоучений:
А вообще у меня есть для тебя хороший совет: смелее во всем, везде и всюду. Побеждает тот, кто не думает об отступлении, кто, даже отступая, думает о своём. Итак, спеши, девушка![58]
Е.П.: Увы, и экзамен на аттестат он на флоте не сдал, и срочную свою службу не дослужил. Шукшин был зачислен на службу 1 января 1950 года, служить предстояло четыре года. Получилось – почти в два раза меньше.
Матрос Шукшин с гастритом попал в Главный военно-морской госпиталь Черноморского флота, и через месяц, в декабре 1952 года, был списан со службы.
М.Г.: Интересно, что впоследствии о флоте и флотской службе он не напишет совсем ничего, зато сыграет в кино несколько «морских» ролей. Например, бывшего матроса Стёпку Ревуна в фильме «Алёнка» (1961, реж. Б.Барнет), рыбака Жорку в картине «Какое оно, море?» (1964, реж. Э.Бочаров), морского офицера Николая Ларионова в кинофильме Игоря Шатрова «Мужской разговор» (1968). Будем считать, хоть для них служба ему пригодилась.
Е.П.: На фильме «Какое оно, море?» он встретил Лидию Николаевну Федосееву, которая вскоре стала Шукшиной. Именно тогда завязался этот ярчайший союз, длившийся потом всю отмеренную ему Господом жизнь, до самой его смерти…
Глава пятая
Снова в школу
М.Г.: С флота Шукшин вернулся не в подмосковный барак, но – в материнский дом, в Сростки. Недолго он прожил здесь, чуть больше года, успев, однако, сделать многое: получить аттестат зрелости, к чему так упорно, но безуспешно тянулся во время службы, поработать в школе, жениться и опубликовать первые в жизни статьи.
Е.П.: Можно сказать и иначе: приехал, чуток пожил, и покинул деревню – теперь уже навсегда. Покинул и молодую жену, что вызывает теперь большое осуждение пишущих о нём моралистов. В такой реакции есть своя справедливость. Тем более, что Мария Шумская была, судя по всему, хорошей, любящей женщиной. Василия она никогда после не осуждала ни устно, ни письменно. А имела, можно смело сказать, все права на это. Оставалась, судя по фото, красавицей до самой старости. А вот как её описывают очевидцы в молодости – их свидетельства приводит Тамара Пономарёва:
Мария одевалась лучше всех местных девушек. Если у других на ногах были сапоги из свиной кожи – Шумская щеголяла в хромовых, блестящих. Сверстницы прятали свои ноги под штаны (мода такая тогда в сибирских деревнях была), которые торчали из-под юбки, а Мария гуляла в жёлто-коричневых тонких чулках. Все шили костюмы из толстого материала, называемого шевиотом, – она носила бостоновую юбочку и красивую импортную кофточку.[59]
Непростая девушка! Ну, Шукшин таких непростых и выбирал обычно. Или они его выбирали, что мы увидим из дальнейшего его жизнеописания.
М.Г.: Со своей первой женой Шукшин познакомился ещё в детстве – она приезжала в Сростки к родне. Личное знакомство продолжил во время своего флотского отпуска. Писал потом письма и ей, и сестре Наталье – чтобы та доложила, как ведёт себя Шумская (они вместе учились в Новосибирске). Писал сурово и ревниво:
Ты говорила, что она виновата совсем немножко. Уж лучше бы она была виновата совсем, полностью. А потом, что такое в вашем (девичьем) понятии – немножко? Это – наверно, пройтись до дома, ну, поулыбаться… Вот так немножко. Мы-то тут думаем, что нас там ждут, а там – увы![60]
Да и позже, уже после возвращения со службы, ревновал её – бешено. Об этом вспоминает односельчанка Александра Ивановна Наумова (Карпова):
…он из больницы в полосатом больничном халате ночью пробирался к Шумским. <…> Он к ней никому подходу не давал. Помню, Ваня Баранов был в неё до безумия влюблён, и даже травился из-за неё. Но Шукшин его к ней всё равно не допускал.[61]
Самой Маше Шукшин писал с флота тоже довольно сурово, во всяком случае, назидательно:
Я часто думаю о нас с тобой, и мне ясно, что мысли наши не расходятся. Нужно только не изменять этому образу мыслей, нужно найти силы выстоять в борьбе с житейскими трудностями. Мне будет труднее, Маша, чем тебе. Ты последовательно и спокойно делаешь своё дело.[62]
А перед возвращением домой, на 1952 Новый год прислал ей открытку с таким вот пожеланием: «Будь здорова, но несчастлива». То есть: без него – несчастлива, а с ним, подразумевалось, другое дело!
Е.П.: В одном из интервью Мария Шумская откровенно призналась: здоровой была, а счастливой – нет. Так что сбылось пожелание Шукшина… И ещё, отвечая на вопрос «Вы никогда не жалели, что вышли замуж за Василия Макаровича?», сказала:
Не жалела, конечно. Он у меня вот тут остался – в сердце… Это не проходит. Вот говорят, что нет любви. Есть она – единственная. Единственная… А у него, наверное, не так всё было…[63]
М.Г.: По поводу причин расставания Шукшина и Шумской есть множество разноречивых версий. Конечно, не обошлось без «сама виновата». Дескать, как пел когда-то Окуджава, «всё тенью была – никуда не звала». Не вдохновляла на великие свершения. Хотела обычной, хорошей жизни. Но кто женщину за это осудит!