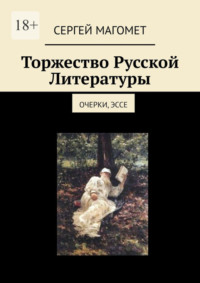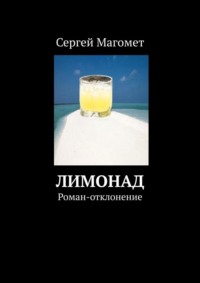Полная версия
Русские апостолы. роман
Такого рода записочки я веду. Но время от времени приходится закапывать их в укромном месте. Авось, когда-нибудь, когда придет время, достану!
Теперь мне самому снится этот изумительный сон, как Михаил Архангел, обряженный в красные одежды, выводит меня из пшеничного поля. Но что особенно примечательно, выйдя из этого поля, я тут же попадаю в другое – еще большее, где обильно колосится спелая пшеница. Такого громадного поля в целом свете не найти!.. Я смотрю и вижу: в поле-то, оказывается, уже множество жнецов-работников, и среди них мой забавный маленькие мужичок. А еще – мои прихожане, духовные дети. А еще – многие святые угодники… Для меня совершенно очевидно, что это огромное поле – весь наш мир, который не что иное, как один громадный лагерь или тюрьма, в котором мы все и находимся…
Ну что ж, допустим, мне известно всё на свете и я такой умный, что могу постичь все тайны мира. И всё же я счастлив иным. Тем, что сделался ради Христа юродивым. Я блаженный, а мой совершенный разум со всеми его познаниями склоняется перед таинственной Божьей волей. Я живу, как Бог даст.
Ну вот, теперь и мне сообщили, что срок моего заключения в лагере закончился, я больше не заключенный, могу убираться на все четыре стороны – жить на вольном поселении. Вот радость-то!
Кстати, Мария уже давно на свободе и теперь приезжает в наш городишко, затерявшийся в глухих лесах.
Теперь мы живем у другого благодетеля. Пропитания, увы, никак не достаточно. Поблизости от хозяйского дома находится больница, и здешняя докторша подкармливает нас больничной баландой. Чтобы не умереть с голода, кое-как посадили картошку. К сожалению, домочадцы благодетеля повадились тихонько таскать и потравливать наши запасы, но я строго-настрого запретил Марии поднимать из-за этого шум или хотя бы заикнуться хозяину.
– Скоро, может быть, Конец Света, Мария, – говорю ей, – думаешь, тогда легче будет?
Потом решаю, что пора нам переезжать в какое-нибудь другое место. Начинаем подыскивать новое жилье. Что, оказывается, дело весьма не легкое. Большая часть комнат и хибарок в округе слишком роскошны, чтобы снимать их для жилья и молитвы. Всякий раз, осматривая очередную «фатеру», я ужасно огорчаюсь; мне начинает казаться, что нашим поискам не будет конца.
– Послушай, Мария, – вздыхаю я, – лучше бы нам посмотреть что-нибудь другое – чтобы комнатка такая, ну чтобы совсем небольшая, и окошко поменьше, потемнее…
Она только диву дается, чуть не плачет от огорчения. Не могу же сказать ей напрямик, что лучшее жилье для нас было бы вроде того тесного хлева, где родился Спаситель.
Поэтому говорю ей иносказательно:
– Вот такую бы мне комнатку, Мария, в которой бы и умирать было славно!
– Ну, разве я против, дорогой батюшка. Да только где ж такую и найти? – улыбается в ответ моя добрая Мария.
По доброте же душевной делает «понимающие» глаза. Хоть ничегошеньки не понимает.
Но мы его всё-таки находим, жильё. То, что надо. И поблизости от храма. Крохотная такая лачужка с кухонькой за картонной перегородкой, малюсенькое окошко прямо у самой земли, пол земляной и влажный.
Всеми силами обустраиваемся, наводим уют. С дальнего пустыря таскаем из развалин кирпич за кирпичом. Строим в углу комнаты печурку. Увы, она почти не греет и сушит. Но жить кое-как можно.
Я понял, что времени в природе не существует. Время – бесовская выдумка. Чтобы сбить-запутать. Но одно несомненно: я всё-таки старею.
Иногда служу в храме. Но всё реже и реже.
Во время войны опять много записывал. Керосинка едва коптит, почти не светит. Уголь для топки плохой, из-за него в воздухе чад и плавает какая-то серая пена.
Смертельно уставшая, Мария всё-таки молится и молится, чтобы Господь явил ей какое-нибудь чудо. Она так мечтает о чуде, что готова видеть его в сущей чепухе.
Вот, раздобыла немножко муки, чтоб испечь просфорки, и счастлива аж до седьмого неба! Чудо! Принялась растапливать печурку. Начадила немыслимо. Глядит сквозь клубы дыма, а на грязной стенке ей мерещатся какие-то фигуры. Присмотрелась получше: это же ангелы небесные!.. И, чтобы как-то запечатлеть их, бросилась обводить на стене углем их контуры. Чудо!
– Бога ради, милая, сотри ты их. Соблазн это, и больше ничего, – говорю ей. – Кроткие не ходят поверхними путями. Другими словами, – объясняю, – не к лицу нам предаваться мечтаниям о чудесах. Например, чтобы Господь послал нам, как Илье Пророку, ворона и тот носил нам пищу. Упаси, Боже! Попробуем как-нибудь обойтись без чудес, радость моя!
– Простите, батюшка, согрешила! – тут же соглашается добрая женщина со слезами на глазах.
После окончания войны люди начинают ходить к нам чаще. Кто за советом, кто за молитвой. Чуть ли не паломничество какое-то образуется – к нашей-то лачужке. Более того, несколько близких людей переезжают из своих мест и поселяются по соседству, чтобы помогать нам и молиться с нами.
Только теперь сообщаю Марии точные приметы потайных мест, где схоронил свои записи, и велю отправляться на их поиски. Несмотря на хвори и уже весьма преклонный возраст, ей приходится ездить в дальние края, с запада на восток, с севера на юг, но, в конце концов, с Божьей помощью, откапывает и привозит все мои тетради в целости и сохранности.
Только теперь я могу обозреть свой многолетний труд целиком. И что же мои изыскания?.. Ох, приходится признать, что воз и ныне там. Что такое «искусство святости»? Где дорога в Небесный Иерусалим? Одному Богу ведомо.
Между тем, не взирая на мою немощь и старость, люди продолжают идти и идти. Кто-то едет из глухих деревень и городков, кто-то из больших столиц. Из городов даже больше. И каждый, кто на что горазд, старается доставить нам какой-нибудь гостинец или подарок. Чего только не везут, добрые люди: и иконки, и книги, и открытки, и граммофонные пластинки, и одежку, и денежку, и консервы, и масло, и шоколад, и лимоны с апельсинами… Всякие дефициты. Без счета. Столько всего, что я уже просто не успеваю раздавать. Женщины складывают запасы, забивая доверху сарайку и кладовку с кухней.
Пожалуй, теперь я совсем уж старик. Уж и не припомню, когда последний раз выходил из дома прогуляться. А люди всё идут и идут! Целыми толпами. Мужчины и женщины. Образованные и совершенно безграмотные. Служащие, колхозники, рабочие, военные. Скажите на милость, что вам потребно от юродивого? Совета, батюшка, совета. Не могу же я дать им от ворот поворот! Вот и сыплются на меня вопросы, вопросы, вопросы. И о чем?
Спрашивают, по большей части, про свое здоровье, семейные и денежные дела. Многие жалуются на пьянство родных и близких.
– Алкоголизм – страшное зло, неизлечимая болезнь, – объясняю им. – Тут ни слова, ни порка не спасут. Всё бессильно. Только Благодать Духа Святого может помочь…
На прощание непременно спрашиваю у посетителя:
– И как думаешь спасаться, радость моя?
– Вашими молитвами, батюшка! Вашими молитвами!..
– Ну уж! А сам что же?
А некоторые вопросы до того глупы, что даже больно.
Вот, давеча, приходит одна, вроде монашки. С первого взгляда ясно: в психозе религиозном. Показывает какие-то особые четки, якобы, подаренные ей каким-то необыкновенно святым старцем, и спрашивает, сколько же сотен или тысяч раз по этим четкам ей следует прочесть Иисусову молитву, чтобы уж как следует проняло.
– Ты, наверно, спортсменка-рекордсменка, радость моя? – спрашиваю ее.
– В каком смысле, батюшка? – удивляется, опешив.
– Ну как же, ты же на рекорд у меня идешь.
– В каком смысле? – опять лепечет.
– Вот что. Вместо своих сотен и тысяч, сотвори молитву хотя бы десять раз, но так чтобы со всей душой и без суетных мыслей!
– Разве это трудно, батюшка?
– Ну, иди, попробуй, милая!
И что же? Через несколько дней опять приходит. Говорит, что даже и пяти раз не смогла, упала от усталости.
Другая, вроде этой, тоже приходит, приносит с собой какую-то святую книгу, где написано про стигматы, и сильно удивляется, когда я советую ей забыть, убрать ее куда-нибудь подальше, если не хочет пожалеть на Страшном Суде.
Третья, выстоявшая от нечего делать не то три часа, не то трое суток в очереди, чтобы поговорить со мной, просит:
– Благословить хоть на что-нибудь меня несчастную, батюшка!
– Пойди посцы, радость моя, – велю ей.
Опрометью выбегает вон. Слышу, как в сенях Мария говорит ей серьезным, даже суровым голосом:
– Иди скорее, бедная! Не теряй ни секунды! Он ведь великий старец! Если сказал, что садись прямо за сарайкой и хоть капелючку да выжми из себя, если не хочешь рак заработать…
Падая и спотыкаясь, женщина несется за сарайку.
Уж давно заметил, чем больше нести околесицу и бред, тем сильнее они липнут. Пусть.
Да, странная штука время. Сейчас мне кажется, что закат жизни длится годы и годы, целую вечность, больше, чем можно вообразить и представить. Принимая паломников-пилигримов, мне кажется, что я старик всю свою жизнь. Перед глазами у меня нескончаемая череда лиц. Я стараюсь, как могу, и через не могу. Всё Христа ради.
Если мы принимаем посетителей дома, то Мария всё устраивает чинно-благородно, накрывает на стол, подает гостям, чего только их душа пожелает. На прощание стараюсь надавать с собой побольше подарков и гостинцев в дорогу, но запасов в сарайке и погребе никак не уменьшается. Только увеличивается. Такое изобилие ужасает. Целые ящики вина и водки. Фруктовые наливки и шампанское. Уж избегаю туда заглядывать. Просто бакалейно-вещевое нашествие и иго какое-то. В углу, накрытая дерюгой, десятилитровая бутыль доверху забитая железными и бумажными деньгами. И всё это богатство проходит через мои руки. Раздаю, раздаю, раздаю. Еду, книги, даже иконы.
А однажды поздней осенью благодетель привозит и сваливает в погреб полтонны окуней и щук. Целыми днями мы с Марией принуждены стоять по колено в мерзлой рыбе, набирая ее в ведра и раздавая людям. Вот.
Вот чего я боюсь. Такое материальное изобилие – сильное искушение для местных. Пусть даже мы их и задариваем подарками. Всё напрасно. Зависть-ревность усиливается, злоба копится.
И смешно, и грустно. Самым большим предметом зависти неожиданно оказывается большой и дорогой гроб, отделанный резьбой и орнаментами, который я заготовил для себя самого. На этот раз ядовитый змей ревности ужалил нашу местную, так сказать, руку правосудия. Во избежание худшего, я решаю подарить чудесный гроб завистнику. Уж как он радуется, как радуется! Так, счастливый, на следующий же день возьми и помри.
Странное дело, с этих пор местные милицейские начальники – всегда мои искренние доброжелатели и приятели. Вроде, родни-кумов да крестников. Я их теперь и зову без церемоний: кого Колькой, кого Васькой. Ну вот.
Сижу и сижу дома. Смотрю на громадные кипы своих тетрадей и рукописей и понимаю, что никогда уж не смогу ни прочесть, ни привести в порядок, просто даже пролистать. А сколько глупостей и нелепостей было в моих первоначальных мыслях! И не исправить теперь написанного. Мне так хотелось написать книгу для молодых умов, а ведь даже самый простой богословский опус был бы недоступен детскому пониманию. Уж лучше было написать что-нибудь попонятнее, в романтическом духе, вроде романа…
А разве не смехотворна сама идея создания универсального труда – об искусстве святости и пути в Небесный Иерусалим?
Написал ли я вообще что-нибудь стоящее? По сути – ничего. Не продвинулся ни на шаг… Да возможно ли это вообще?
Теперь у меня хватает сил говорить с людьми лишь едва слышным шепотом. Рассказываю им о всяких разных вещах. Вовсе не уверен, что они меня слышат и понимают. Поэтому Марии, по своему разумению, приходится дообъяснять, что я имел в виду и хотел сказать. Ну, пусть.
– Вот иные говорят, что религия – поповское изобретение, – например, говорю я. – Ну, как такое может быть, дорогие мои? Все до одного великие умы – и Ньютон, и Коперник, и Галилей, и Пастер, и Рентген, и Мендель, и так далее – все были не просто религиозны, но были священнослужителями и даже монахами…
Я говорю, говорю. И Мария говорит, говорит.
– Не сомневайтесь, мои дорогие, – продолжаю я. – Если бы кто-то хотел увлечь, заморочить людей чем-то фантастическим, необыкновенным, то, наверное, можно было придумать что-то более веселенькое и миленькое. А тут такое страстное самопожертвование, полное отсутствие материальной выгоды для себя, да еще такое пренебрежение реальной жизнью и даже ближайшего будущего! И всё это ради чего? Ради достижения какой-то таинственной, невиданной Вечной Жизни. Да еще при условии, что эту Вечную Жизнь можно наследовать, лишь взвалив на себя свой собственный крест!.. Чтобы кому-то пришло в голову, что такую идею можно проповедовать по всему миру? Рассудите сами, дорогие!
Что еще я хочу им рассказать?
– Вот, какая это идея. Когда вы осуждаете кого-то, то осуждаете самого себя. А когда вас несправедливо обвиняют, даже клевещут, вы должны лишь смиренно согласиться: да, виноват, просите, ради Христа! Другого верного пути приобрести дары Святого Духа не существует. Это апостольский путь. Другие пути – длинные, путанные. Чтобы пройти по ним и не погибнуть, вам понадобится надежный проводник, духовное руководство. Но чтобы идти апостольским путем не нужно ничье руководство!
И еще говорю им.
– Мои любимые! Никак не требую от вас, чтобы вы спали на голых досках или изнуряли себя голодом. Или молились страшно длинными молитвами. Только умоляю вас, дорогие мои, во всем и во всякое время вините и обвиняйте только себя самих. Да, да, лучше выпей стакан молока в постный день, чем стакан крови ближнего. Довольствуйся тем, что у тебя есть, а только не ешь людей!
Ну и так далее.
Однажды говорю Марии:
– Вот, – говорю, – пришло время сделаться тебе Христовой невестой.
И начинаю учить ее, какие молитвы говорить, что носить, что делать. Чтобы всё по правилам.
А когда всё объяснил, шепчу уже совсем тихо, так что и сам не слышу, кажется, что и губы не шевелятся, не чувствую:
– Вот что, надейся не на людей, а только на Бога.
Докторша навещает меня часто. Опять приходит.
– Ну, как ты, старичок? Что с тобой? Эй, батюшка!
Но я молчу и не отвечаю. Тогда, помолчав, она говорит уверенно:
– Дело ясное, склероз.
Я ее слышу. Потом она уходит.
Умирать ужасно. Одна мысль. И всё-таки нужно приготовиться умирать. Да.
Что ж… Мария шьет покров.
3
После смерти изверга мы возвращаемся домой. Я уж не младенец и знаю, что мой отец совсем не мой отец. Таких, как я, называют чадо Господне. Божий ребенок. Кто мой отец? Кто, откуда? Чтобы подумать об этом, я убегаю в рощу или в сады. Я смотрю на небо… А вокруг происходят чудеса. Ни одно, даже самое маленькое, не укроется от маминого взгляда. Мама знает: чудеса всегда происходят около и вокруг меня. А еще ей рассказывают знакомые, подруги. Но никто не понимает, что это значит. Кроме нее. Мама улыбается и украдкой смотрит на меня. Ее лицо озаряется солнечным светом.
Вчера мальчишки шалили у колодца, толкались, пинали друг друга. Кувшин выскользнул у меня из рук и разбился вдребезги. На мне был мамин платок. Я тут же свернул его, как будто ведро, и, набрав в платок воды, до краев, донес до дома…
А недавно моего старшего брата ужалила за ногу гадюка. Он ужасно побледнел. Потом у него подкосились ноги, он сел на землю, беспомощно хлопая глазами. Я был вместе с ним и вздрогнул, как будто змея ужалила меня самого. А потом бросился дуть на укус, – ведь когда ударишься или уколешься обо что-то, естественно хватаешься за больное место, начинаешь тереть или дуть на него. Самая простая и лучшая первая помощь. Когда-нибудь люди поймут. Вот и багровое пятно от укуса на его ноге стало бледнеть на глазах, и так сошло…
В другой раз я с мальчиками играл на крыше дома. Один мальчик упал вниз и, сильно ударившись о землю, умер. Когда прибежали взрослые и окружили мертвое тело, то, показывая на меня, грозно закричали:
– Иди сюда! Это ты его толкнул и убил, негодник? Признавайся!
У меня даже дыхание перехватило от такой несправедливости и слезы подступили. Я быстро подошел, взял мертвого мальчика за руку. И вдруг мальчик ожил и сказал:
– Нет, он меня не убивал, а спас!
К моему удивлению, он схватил мою руку и благодарно поцеловал. А за ним и его мать бросилась целовать мне руку. И отец тоже. Но другие, уже расходясь, продолжали недобро ворчать.
Или вот еще… Другой мальчик попал себе острым топориком по ноге. Глубокий порез, похожий на раскрывшийся бобовый стручок, быстро набухал кровью. Тут мне пришло в голову, что если в первые мгновения покрепче прижать края раны друг к другу и подержать так некоторое время, рана срастется сама собой. Так я и поступил. А когда отнял руку, вместо раны осталась лишь тонкая, как нитка, царапина…
Вот теперь старший мальчик, пробегая мимо, сильно ударил меня кулаком в бок. Задохнувшись от боли, я лишь прошептал ему вслед:
– Проклятый!
Не знаю, как у меня могло такое вырваться, но в следующее же мгновение мальчик споткнулся и, падая, ударился головой о камень и умер.
Я не знаю, было ли это простым совпадением или, правда, в Царстве Божьем зло должно быть немедленно наказано. Впрочем, конечно, знаю… Как бы то ни было, люди стали приходить к отчиму и хмуро требовали:
– Чтобы наши дети не гибли, научи его благословлять, а не проклинать!
Отчим начинает меня ругать. Мне неловко и жалко его. Он отводит глаза в сторону.
– Ты повторяешь не свои слова, – говорю ему. – Я и сам знаю. Впрочем, раз уж так просишь, впредь пока не стану наказывать тех, кто меня обижает… Но только не тех, кто сейчас заставил тебя отругать меня!
На следующий день оказалось, что те люди ослепли. Это так рассердило доброго отчима, что он даже хотел оттаскать меня за ухо.
– Нет, не трогай меня, ведь я не твой сын! – вырывается у меня, и я смотрю на маму.
Мама ведь знает, чей я.
Однажды родители берут меня в храм, чтобы показать священнику, и поговорить с ним. Вокруг собираются старейшины, разные знатные люди и мудрецы. Меня с интересом, но доброжелательно разглядывают, задают какие-то странные, удивляющие меня вопросы, а потом сами же удивляются моим ответам. Однако одобрительно гудят. Жуют губами. Двигают бровями. Отвечать на их вопросы легко и даже весело. А они только больше удивляются: как это какой-то мальчик с легкостью рассуждает о предметах, в которых и мудрецы теряются?.. Потом затевают шумный спор, каким из премудростей меня следует учить и кому из них лучше отдать меня в ученье. Спорят долго и жарко. Наконец утомляются, умолкают и как бы вопросительно смотрят на меня и на родителей.
– Можно теперь и я вас спрошу об одной вещи. Кто из вас знает, – в свою очередь интересуюсь я у них, – когда люди больше не будут умирать?
Их изумлению и растерянности нет предела. Даже брови не двигаются.
– Ну вот, – говорю я, – как же вы учите, если сами не можете ответить на такой простой вопрос?
Сколько еще слышанных, виденных, собранных отовсюду странных историй обо мне бережно хранит в памяти мама!.. Впрочем, как и всякая мать о чудесном своем ребенке, помня каждый день, каждый миг его жизни…
Вот, как обычно, на Пасху всей семьей и вместе с другими семьями отправляемся в город на праздничную ярмарку. В всём мире нет места удивительнее, чем ярмарка! Только на обратном пути родители спохватились, что я куда-то подевался. Приходится им возвращаться обратно в город, искать меня. Мечутся по ярмарочной площади, по соседним улочкам, а находят в главном храме, где я спокойно сижу, разговариваю со старыми священниками.
– Мы уж с ног сбились, разыскивая тебя! – сердито набрасываются на меня отец и братья. – А ты, оказывается, вот где!
– Где же мне быть, как ни в доме моего отца?
Никто, кроме мамы, не обращает внимания на мои слова. Но мама молчит. Она понимает всё, что происходит со мной. Но не умом, а сердцем. Понимает с полуслова, с полувзгляда.
Когда застрелили папу, я еще совсем маленький. Так взрослые говорят: совсем дитя. Странно, ведь я всё вижу, слышу, всё понимаю. У меня есть старшая сестричка. Вот, мы слышим, как вдруг приходят люди и рассказывают маме, что две минуты тому назад на улице прямо перед нашим парадным стоял какой-то прилично одетый господин и застрелил подходящего папу насмерть. А папа возвращался домой со службы, просто обычной дорогой. Мама тихо, но очень внятно произносит: «Боже праведный!» Сестричка и я стоим рядом. Мне кажется, я первый раз в жизни слышу и понимаю эти слова, хотя мама сейчас лишь повторяет их, а обычно их говорил папа, то и дело, при всяком случае.
Теперь все причитают: ах, какой несчастный случай, это покушение, почему, ведь папа был всего лишь скромным чиновником в лесном департаменте, всё вышло по ошибке, его приняли за другого. Более того, вскоре к нам домой является еще один господин, тоже прилично одетый, революционер, и действительно начинает объяснять маме, что это трагическое недоразумение, так как в тот злополучный день папа был в красивом, парадном мундире своего лесного департамента, который чрезвычайно похож на военный, прямо-таки генеральский мундир. Прикладывая руку к сердцу, человек просит поверить, что он и сам сочувствует безмерно, причем от лица всей организации. Уверяет, что допустивший ошибку получил строгий выговор за нелепую, бессмысленную жертву, а нашей семье организация от всей души предлагает солидную денежную компенсации за потерю кормильца.
Мама всплескивает руками, на ее лице написаны гнев и презрение, и так же тихо говорит:
– Боже праведный! Вы просто сами не понимаете, не ведаете, что творите!
– А вот и нет, – отвечает человек, заметно сердясь, – очень даже понимаем. Просто на этот раз ошиблись… – Вдруг он переводит взгляд на меня и, неприятно улыбаясь, тянет руку, чтобы погладить по голове. – Здравствуйте, молодой человек!
– Прошу вас, уходите! – говорит ему мама.
– Я действительно ужасно вам сочувствую, сударыня, – настойчиво твердит человек прежде, чем наконец исчезнуть.
Уже поздняя ночь, а мы сидим на маминой постели все вместе, обнявши друг друга, и плачем. Потом мама говорит, что папа сейчас с Богом и будет беспрестанно за нас молиться. А мы должны молиться за него. И что, несмотря, что его нет с нами, мы можем обращаться к папе абсолютно в любое время, и даже неважно, хорошо ли мы себя вели до этого или нет. Папа всегда нас слышит, хоть и не всегда может нам ответить.
– Но иногда, – дрожащим в тишине голосом говорит мама, – вы будете слышать папин голос так ясно, словно он близко-близко, словно шепчет вам вот так, на самое ушко…
Мы бесконечно, безмерно любим друг друга. Поэтому мне ужасно неловко, когда я все-таки оказываюсь самым любимчиком и мама с сестричкой на меня не надышаться, говоря, что я как две капли воды похож на папу. Последнее особенно странно: ведь папа взрослый мужчина, такой сильный и серьезный, а я всего лишь маленький мальчик, слабый и, бывает, что проказничаю.
С тех пор как мы остались без папы, нас детей редко берут в церковь, еще реже отпускают одних, боятся, как бы не простудились или еще что-нибудь. Как жалко! Обожаю слушать, что говорят в церкви. А однажды на службе даже стою и думаю про себя: надо же, как удивительно: дома-то я сейчас, пожалуй, занимался бы какой-нибудь чепухой, а здесь в храме вот слушаю вещи полезные для души и сердца.
У меня всегда много разных увлечений, то одно, то другое, но они часто меняются, к тому же во всех играх я словно чувствую какую-то странную пустоту и никчемность. Даже приходит в голову, не такой уж я и маленький, не пора ли задуматься о моей будущей взрослой жизни?.. Но, увы, в компании друзей-товарищей эти серьезные мысли быстро улетучиваются.
Мы живем на папину пенсию, как мне кажется, припеваючи. Конечно, нас никак нельзя назвать богачами, но нам и не надо…
С недавних пор, едва мне исполнилось десять лет, всё стало стремительно меняться, а потом как в один день – революция! – мы вдруг оказались совершенно нищими, без пенсии, без ничего, а кругом отчаянный голод и паника.
Поэтому «снимаемся с насиженного места» и поспешно отъезжаем на Волгу, в надежде пересидеть смутные времена у дяди. Однако этот красивый городок, еще недавно славящийся своим чудесным изобилием, оказался еще в более бедственном положении: голод и отчаяние тут такие, что умершие лежат прямо на улицах.
В прежние времена дядя был купцом и большим доброделателем. Даже и сейчас, совершенно разорившись, он без отказа дает в своем доме приют не только многочисленной родне, но даже совсем незнакомым людям. С Божьей помощью ему удается кое-как перебиваться, благодаря кипучей энергии и неутомимой, изобретательной предприимчивости. У меня теперь множество знакомых беженцев и бродячих монахов со всех концов света. А рассказывают они такие жуткие вещи, что сначала, когда начинались «взрослые разговоры», нас, детей, выгоняли из комнаты. Теперь таких историй великое множество, рассказывают их постоянно, так что детей уже просто забывают выгонять… При этом в каждой истории я непременно слышу одни и те же странные, непонятные, но зловещие, словно колдовские заклинания, слова: «религиозная пропаганда и контрреволюционный заговор».