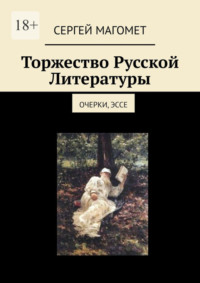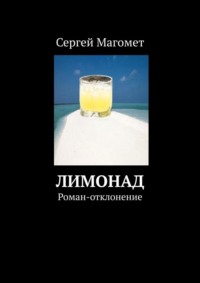Полная версия
Русские апостолы. роман
Мама была совсем юной девушкой, когда вышла замуж, тоже за пожилого. И ей явился архангел и сказал, что вот, она зачнет ребенка. От Духа Святого. Так и случилось. То есть через короткое время мама почувствовала, что беременна.
А однажды пошла к сестре и едва переступила порог, как сестра изумленно воскликнула:
– Ах, ребеночек у меня в животике играет и ворочается от радости! Не иначе, как сама Матерь Божья пожаловала ко мне!
И сестры принялись шептаться, какие чудесные у них народятся детки, какими удивительными людьми вырастут.
Кое-кто, конечно, усомнится и решит, что причина всему женское умиление, сестринская солидарность в житейских делах. Но каково приходилось маме? Могла, наверное, объясниться с супругом, бесхитростно, прямо. Но предпочла, страдать и какое-то время отмалчиваться. Тоже вполне по-женски. Чтобы муж почувствовал. Такое глубокое, почти обиженное молчание действует на мужчину безотказно. В результате он и правда начинает что-то «чувствовать» – что виноват, хотя даже не понимает, в чем. Пожилой плотник – более смирного, простодушного человека не сыскать. Что чувствовал он? Супружеская неверность есть страшный грех, преступление, за которое побивают камнями. Сначала, боясь, что это может открыться, он хотел тайно вывести молодую жену, где ее никто не знает: пусть живет себе одна. Но потом и ему явился архангел, по его же приказанию он оставил маму в своем доме. И даже до моего рождения не делил с ней супружеского ложа, потому что всем сердцем верил, что ребенок от Духа Святого.
Конечно, всегда и всё идет от женщин. Они знают всё. Подмечают каждую мелочь. Всё хоть сколько-нибудь чудесное или таинственное. Не смыкают глаз. Чего стоят эти их загадочные перешептывания, переглядывания! Передают по секрету одна другой. Потом рассказывают мужьям. Их нет в храме, почти не видно на площади, но в своей семье они главные.
Отчиму и маме все-таки пришлось отправляться в дорогу, переезжать в другое место по закону о всеобщей переписи. Может, это и к лучшему, что никто их там не знал: слишком уж бросалась в глаза разница в возрасте и то, что такая молодая жена, почти девочка, уже успела понести. Но в пути всё складывалось как нельзя благополучно. На одном из постоялых дворов народу было так много, что единственное свободное местечко нашлось только в хлеву. Сгрузив скарб возле яслей и распаковав необходимые вещи, они сразу почувствовали себя как дома – бедный уголок сделался таким уютным, теплым, словно его озарил чудесный свет. Здесь мама и родила меня – и сразу высоко в небе взошла и просияла первая звезда. Местные пастухи просовывали головы в наше окошко, чтобы взглянуть на новорожденного. Потом пожаловали почтенные мудрецы и заморские волхвы, положили к моему изголовью особые, ценные дары. Крошечный самородок золота, как почесть царской особе. Кусочек смирны, по которой можно узнать врачевателя. А еще – немного ладана – знак благочестия и святости. Мама склонилась над своим драгоценным чадом, ее глаза выражали обожание и покой. Волхвы терпеливо ждали, пока я, заинтересовавшись подношениями, переводил взгляд то на одно, то на другое. Вдруг потянулся и, как рассказывают, схватил все дары разом. Волхвы только молча, прочувствованно покачали головами. Исчислив движение звезд и проникнув в тайны древних рукописей, они заранее предвидели результат. Тем не менее, их удивлению и смущению не было предела. За ними по пятам следовали шпионы, посланные правителем, злодеем из злодеев, смертельно напуганным древним пророчеством, которое он надеялся предотвратить, пролив кровь младенца.
Мама улыбнулась. Ничто не предвещало беды. А сколько других матерей, верящих, что именно их дитя и есть Спаситель и встревоженные зловещими слухами, так и не решились спасаться бегством!
Что ж, тогда архангел опять явился отчиму, приказав немедля собираться, сей же час трогаться в путь – всей семьей бежать в далекие египетские земли. Уже там, на чужбине до него дошло известие о резне младенцев в его родном городе. Воздев руки к небу и проливая слезы, отчим воскликнул:
– Подумать только! Что вы на это скажете? – Потом повернулся ко мне. Я сидел на руках у мамы. – Видно, и правда, это чудесное дитя явилось, чтобы спасти мир, раз такое множество невинных младенцев было принесено в жертву пред лицом Господа вместо него! Не иначе, как это и есть сам Господь Бог прошлого, настоящего и будущего человечества! А бедные малютки-мученики будут первыми в рядах небесного воинства, которое грядет со Спасителем во главе, чтобы наконец очистить мир от греха…
Ни разу за всю свою жизни до сего момента, и никогда впоследствии, никто не слышал от старого плотника такой продолжительной и горячей речи.
Мама крепче прижала меня к груди. Всё поняла.
Тихонечко молюсь в крошечной келье. Готовлюсь к исповеди. Здесь так мирно, так спокойно. Не то, что на душе! Обычная исповедь… Но нет, не совсем…
Сегодня день моего рождения, я достиг возраста Христа, а моего наставника и духовника бросили давеча в тюрьму. Увели прямо от алтаря посреди службы. Боже мой, теперь ведь уже известно, что его допросили и расстреляли!
Шепчу молитвы, а голова идет кругом от мыслей, что сейчас в мире делается.
Повсюду страшный голод. Там, за воротами, если кому-то удается достать кусок дурного черного хлеба – он счастливчик. А здесь в монастыре, под крылышком у самого Патриарха, мы едим свежий ситный хлеб, запиваем его афонским кагором. Есть и сахар, и мед с конфетами. Свежее сливочное масло, черная осетровая икра. Причем все в изобилии. Ящиками, коробками, бочками. Одним словом, полная погибель душе. И расплата не за горами.
Ох, я, в некотором роде «разжалован» и посажен сюда в одиночное сидение как бы в наказание. Чтобы у меня было достаточно времени поразмышлять о своей жизни. Здесь никто не запрещает весть записи. Пожалуйста. Но одиночество полное, неукоснительное. Что ж, одному, так одному. Не так уж плохо, в конце концов. Уединение мне всегда по душе. Еще в детстве я предпочитал уединение, а вот в последние годы такой роскоши не было. Зато теперь с радостью ухватился за возможность.
Ах, дни юности-ученья – гимназия, духовная семинария… Как будто вчера было!
Молюсь за упокой души дорогих папочки и маменьки. Папочка был квалифицированным рабочим, через него у меня этот интерес и к науке и к технике. Мамочка просто домохозяйка, верующая до глубины души, через нее у меня тяга к религиозной мистике. Будучи ребенком поздним, я был рощен родителями в великой, необычайной любви и заботе.
По большей части, я предпочитал играть в одиночестве. Еще в школе в высшей степени полюбил читать жития святых угодников. До сердечной боли печалился, узнавая про святых мучеников, и по простоте душевной сильно радовался тому, что всё это дела глубокой старины и античности, и в наше время ничто подобное уже совершенно невозможно. Веселые компании казались мне ужасно скучными. Поэтому одноклассники прозвали меня «монахом».
Однажды в храме ко мне подошел незнакомый, настоящий монах и, дав серебряную монетку, которую преспокойно взял с подноса для церковных пожертвований, велел пойти туда-то и туда-то и купить себе такую-то книгу. Сия книга называлась «Путь духовный в горний Иерусалим». Так случилось, что, придя домой, я запрятал книгу куда-то, и нашел только когда заканчивал школу. Очень кстати. Едва раскрыв, уж не сомневался, какую стезю избрать, духовную или техническую… Поступил в семинарию, затем в Духовную Академию. А тут как раз и нахлынули первые годы большой смуты и разорения.
Ох, теперь-то годы моего учения в Академии вспоминаются, словно время, проведенное в каком-то райском розарии! Там еще оставались многие истинные праведники и аскеты ради веры, старцы прежнего времени, которые давали ученикам не только великие знания, но великое успокоение душе. Никогда не изотрется из моей памяти один такой случай, как раз накануне принятия сана.
Я ужасно измучился разными терзаниями и сомнениями. Впал в великое уныние. Тогда и пришел к монаху-старцу.
– Куда ж деваться от уныния, дорогой батюшка? Что значит сделаться просвещенным разумом, ревностным и праведным служителем Божьим?
– Дитя, – сказал он, – помнишь, как ребенком жил с папочкой и мамочкой? Как хорошо, как славно! Бывало, холодным зимним днем выглянешь из окошка, а на душе словно праздник. Такой удивительный контраст. Пусть на улице мрачно, промозгло, черные деревья покоробились от инея – зато так живописно – как на какой-нибудь знаменитой старой картине.
– Точно так, батюшка! – воскликнул я. – Помню, помню такие утра и такие дни! Но что с того?
– Ну как же, дитя! Как только человеческая душа переустроилась по-Божески, то в ней и самому человеку сразу жить тепло, уютно, чисто, тогда даже собственные страдания, телесные, болезни, кажутся человеку вроде ненастья за окошком – именно живописными, они лишь усиливают восторг перед чудом внутреннего устройства души христианки…
Потом старец поманил меня, чтобы я выглянул в маленькое грязное оконце его кельи, и я увидел такие же живописные, черные ветви дерева, покрытые свежевыпавшим снегом, увидел грязную, хлюпкую дорожку, ведущую Бог весть куда…
Выйдя из Академии и приняв сан, я получил должность преподавателя в захолустной семинарии, а также назначен наместником в чрезвычайно бедный местный монастырёк. До того, надо сказать, бедный, что потом, когда к нам явился комиссар поглядеть, чего бы такое реквизировать из монастырского имущества, то был искренне поражен нищетой и теснотой, в которой живут наши монахи. Сказал, что кельи монастырька не годятся даже для тюрьмы.
– Ну и заведенице! Как тут вообще можно людям жить?
Ему и в голову не могло прийти, что подобный отзыв об условиях жизни в монастыре был лучшей похвалой здешним аскетам.
Как бы то ни было, вскоре монастырь всё ж разграбили, а братья разбежалась кто куда. Многих и поубивали…
Так уж получилось, что наступившее лихолетье и разорение открыли для молодых священников возможности занятия постов, которые оказались вакантными по причине гибели их предыдущих блюстителей. Вскоре меня значительно повысили, дав кафедру не где-нибудь, а в моей дорогой Академии. Кажется, мои лекции пользуются большим успехом. Частенько меня даже прерывают аплодисментами. Это, конечно, уже слишком. Я вынужден строго призывать восторженных нарушителей к порядку и тишине.
Помимо многих трудов как начинающий лектор, я также принялся ревностно и часто служить в храме как священник. А сколько еще народу нужно исповедовать – и простых прихожан, и студентов, и монахов! Это, пожалуй, самое трудное: вникнуть, проследить самые извилистые уголки и закоулки в душах моих духовных чад; не дай Бог, где-то зацепился, свил гнездо враг!..
Кроме того, взялся за перо, начал что-то вроде духовного труда. Решил по примеру угодников подробно записывать мой собственный опыт. А вдруг когда-нибудь удастся постичь великое искусство святости!
К этому моменту учителям совершенно перестали платить жалование. И это еще наименьшее из наихудшего!
Вскоре нашего дорогого архиепископа, старенького, болезненного, арестовали и расстреляли. А вместе с ним и заместителя. Ну а затем, по грехам нашим тяжким, назначили нам нового иерарха.
Новый архиепископ, тоже хоть и весьма преклонных лет, человек необычайно деятельный и непоседливый. Вечно в каких-то переговорах и советах. Налаживании связей с новыми властями, даже и с обновленцами, обзаведении новыми полезными знакомствами. Страшно деятельный, да. Так или иначе, вот и я оказался вовлечен. В числе прочих, подписал проект декларации для совместных консультации с обновленцами. Но, если честно, мне это с самого начала было не по душе. Сейчас тем более. И всё ж подписал. Бог ведает почему. То ли по слабости характера, то ли из послушания начальству. То ли в обуздание собственного своеволия.
Заняв сей высокий пост, архиепископ обнаружил себя крайне властным, совершенно не терпящим никаких возражений человеком. Не нужно быть великим прорицателем, чтобы предположить, какие пертурбации произойдут с таким человеком, причем в самое короткое время: начнет сотрудничать с ГПУ, примкнет к обновленцам, потом вовсе бросит церковное поприще, пренебрежет своим Святым Даром, женится и… наконец помрет.
Наверно, мне казалось, что тут что-то другое, что над всеми этими обстоятельствами нужно еще хорошенько поразмыслить…
Но вот случилось, что один мой воспитанник, очень юный и горячий, вдруг вспылил и принялся прилюдно обличать нового правящего архиепископа. В тот же день меня вызвали к начальству. Архиепископ потребовал немедленного исключения дерзкого юноши. Я наотрез отказался, в результате чего был мгновенно разжалован и посажен под арест в монастырь нести епитимью. Ну, против этого я нисколько не возражал.
Но что-то меня одолевали сомнения. Я собирался посоветоваться о происходящем с некоторыми старцами-монахами из дальних монастырей. С одной стороны, хотел связать свое своеволие и быть покорным, а с другой – боялся, что слепое, бездумное повиновение станет для меня еще более худшей ловушкой, может, даже убийственной для души, и уж из этой ловушки не выпутаться… Кроме того, я ужасно, ужасно печалился, что подписал эти треклятые обновленческие бумаги.
И вот в первом же монастыре, куда я отправился, игумен оказался очень строгим, не принял и отверг мою исповедь, и прогнал в монастырь в Москву. О, каким грешным злодеем я себя почувствовал!
Московский старец исповедал меня и наложил на меня другую епитимью. То есть, как раз за мое «подписантство». Видя, как я горько плачу и каюсь, он немножко смягчился и шепнул мне, что для молодых незрелых сердец это, конечно, бывает – запутаться в окружающей нас лжи. Ведь даже древние праведники и иерархи, блюстители патриаршего престола, уж каким сильными ни были, а и то, случалось, тоже запутывались и падали. Впрочем, по чудесной бесконечной доброте Христовой, целых три раза отрекшийся от него апостол Петр раскаялся и прощен был…
– А ты, слава Тебе Господи, не нагрешил очень много, ― сказал мне старец.
Он также объяснил, что нынешние времена сильно напоминают первохристианские, и в данных обстоятельствах я мог бы даже низложить наместника, поскольку старцы наверняка приняли бы мою сторону, и занять его пост. Что было бы полностью каноническим и законным делом. Я признался, что мне это и в голову не могло прийти. Да и меня на такое бы и решимости не хватило.
В общем, я исповедался, понес заслуженное наказание. А затем направлен на одну из высоких должностей. Да и мое затворничество в монастыре вовсе не являлось обязательным. Я лишь сделался священником без прихода и прихожан. Впрочем, среди священнослужителей всегда есть часть, которые не служат, а принуждены ожидать назначения на приход. Что ж, надеюсь, это ненадолго…
Но вот, дни идут, идут, и поневоле закрадывается огорчительная мысль, что ведь не зря говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное…
Будущее мое назначение всё обрастает новыми сложностями и условиями. Ох, уж и не знаю, как побороть уныние! Ведь теперь, говорят, одних влиятельных знакомых мало; выдумали еще какие-то особые собеседования. Давеча был вызван на одно из таких. И вот, как обернулось дело.
Мне велели явиться в приемную одного из высших церковных иерархов. Разговор короткий и поначалу вроде доброжелательный. Мне заметили, что мое поведение в общем и целом похвальное, а назначение лишь вопрос времени.
– Ну, с Богом. А сейчас мне пора, – улыбнулся архиепископ, поднимаясь из кресла. – Вот, – продолжал он, – не соизволите ли вы, батюшка, немного задержаться и поговорить тут с одним человеком?.. – И поспешно удалился.
В кабинет, из какой-то боковой дверки тут же вошел некто и с порога влепил вопрос:
– Вы против Ленина, батюшка?
– Почему? – отвечаю. – Ленин дал нам свет. За это ему спасибо.
– Что ж, это хорошо… Послушайте, если вам дадут это место, намерены ли вы проявлять всяческую лояльность новой власти? В частности, сообщать властям о всякой подрывной и контрреволюционной деятельности? Вы меня понимаете?
– Да. То есть, нет.
– Как это?
– Лояльным буду. Сообщать нет.
– Что ж, понимаю вас. Да будут ваши ответы просты: да-да, нет-нет.
– Верно. Дабы не впасть в искушение.
– Хорошо же. Как хотите, батюшка. Теперь можете идти.
Судя по всему, экзамен я не выдержал. А второго шанса, пожалуй, и не дадут.
Как бы то ни было, хоть частично, но пытаюсь продолжать служение. А именно, мало-помалу собирать и пасти собственное «стадо малое».
Честно сказать, давно уж подумываю, чтобы самому сделаться «старцем». Пусть даже пока и «молодым». В общем, как положено, молиться, вести полностью затворническую жизнь. За исключением, конечно, духовного наставничества и исповедничества – для тех, для кого мое слабое слово последняя соломинка и утешение… Однако, испросив совета у истинных старцев, получил недвусмысленное внушение, что для старчества я действительно слишком уж «зелен».
– Стоит тебе заговорить с какой-нибудь молоденькой духовной дочерью, – сказали мне, – как всё твое «старчество» как ветром сдует. Оглянуться не успеешь, как окажешься в полных дураках!
Что я мог на это ответить? Только согласиться.
О, наконец-то! После стольких месяцев ожидания получаю местечко второго священника, правда, в одном из больших московских храмов.
Увы, служить самому почти не приходится. О чем сильно печалюсь. Несмотря на это, духовных детей у меня прибавляется. Притом значительно.
Оглянуться не успеваю, как незаметно-незаметно, а пролетают целых три года.
Теперь переехал и живу в доме моего друга и благодетеля. Имя ему Антон Антонович. Он совершенно, и довольно давно удалился от общества, ведет исключительно уединенный образ жизни. У него супруга, необычайно спокойная и тихая, второй такой, пожалуй, в мире не сыскать. Он искренне и твердо убежден, что я его личный «спаситель», такая у меня «миссия». Я удержал его от падения в бездонную пропасть. Что ж, может, оно действительно так.
Некоторое время тому назад Антон Антонович, почтенный и весьма успешный антиквар и коллекционер, к тому же превосходно образованный и наделенный многими талантами, ступил на гибельную стезю. А именно, поддался искушению применить свои чудесные дарования на ниве изучения и упражнения в искусстве магии и спиритизма. Увлекся этим зловещим делом со страстью страшной, буквально потерял голову.
Сперва насобирал целую библиотеку редкостных старинных книг по черной магии и волшебству. Затем преуспел в прохождении многих уровней магической науки, вплоть до самых высших. Вплоть до того что начал вступать в сообщения с самим сатаной! А уж мелких бесов, якобы, целиком подчинил своей магической власти. Для сущей потехи, к примеру, заставлял их гоняться по дому за крысами и мышами или с умопомрачительной скоростью и до седьмого пота перебирать мешки с крупой, да еще насвистывать при этом.
А еще взял себе в голову, что во что бы то ни стало должен написать некую великую книгу – практическое руководство по черной магии. И всё, якобы, именем Иисуса Христа. Слава Богу, Господь удержал его от этого последнего падения.
В самый драматический момент Господь сподобил его прийти ко мне на исповедь и рассказать обо всех своих увлечениях и экспериментах. Это была страшная исповедь. Вместе с ним явились бесы и бесенята, нечистые духи всех мастей, черномазые, как мавры, и смрадные, как трупы, которых он приручил и, как ему казалось, подчинил своей воле. Они пришли, я их видел, они с подобострастным видом свидетельствовали, что он действительно имеет над ними власть. Само собой, я не стал их слушать, цыкнул на них, да так, что свечи в церкви погасли, и стекло в окошке треснуло, – и прогнал вон. Они кубарем покатились по дороге, удаляясь, свившись в один зловонный клубок, поднимая серую пыль.
После этого Антон Антонович полностью смирился и в доказательство того, что стал на путь исправления, отдал мне всю свою магическую библиотеку, чтобы я делал с ней всё, что сочту нужным. Я немедленно пересмотрел и перебрал все книги и без колебания пожег самые скверные и вредные.
Когда огонь уже догорал, и я поворошил палкой пепел, вдали послышался сдавленный вой огорченного врага. Нечистый грозил мне издали кулаком и обещал жестоко отмстить за уничтожение его книг. Что ж, спасибо за предупреждение. У меня и так нет ни малейшего сомнения, что он никогда не оставит злых козней, чтобы побольнее мне досадить.
Очень хорошо. Вот уже много месяцев я живу у моего милейшего Антона Антоновича. Кстати, имея возможность близко наблюдать мою уединенную и одинокую личную жизнь, мой друг, кажется, становится одержим новой идеей-фикс: убедить меня жениться. Снова и снова заводит один и тот же разговор: дескать, как славно, как хорошо было бы, если бы я для начала хотя бы согласился на помолвку с какой-нибудь благочестивой молодой женщиной; она была бы мне и помощницей и опорой в моей аскетической жизни.
– Сейчас всё стремительно меняется, дорогой батюшка, – говорит он. – И церковные установления тоже. Умоляю, простить эти мои рассуждения… Мне кажется, вам бы лучше вообще оставить монашеское направление, а ожениться и продолжать свою христианскую миссию в качестве священника и исповедника. Посмотрите на меня и мою жену! Ах, как это славно быть женатым, доложу я вам! А впрочем, вы, конечно, можете оставаться формально и в монашестве, а при этом завести себе гражданскую супругу…
Видя, что он говорит это от чистого сердца и по простоте и щедрости душевной, я улыбаюсь в ответ.
– Да уж куда мне теперь жениться, дорогой друг! Женилка-то моя давным-давно пришла в негодность…
Но, по правде сказать, эта брачная идея постепенно стала овладевать и мной самим. Стал я задумываться, а что если и правда, «хорошо» и «славно»? В хозяйстве, даже в таком крошечном, как мое, без помощницы весьма хлопотно, а тут среди моих прихожанок как раз есть такая женщина. Мария. С первого взгляда на нее, мне действительно подумалось: вот какая женщина, простая, деревенская, уютная, вот бы такую келейницей… Впрочем, тогда я сразу отогнал от себя эту мысль, больше к ней не возвращался.
Однако жизнь и обстановка вокруг с каждым днем всё мрачнела-помрачалась. Уж, кажется, дальше некуда, а еще и еще. Аресты, расстрелы, и опять… Поэтому, переговорив-посоветовавшись с отцами-старцами насчет первой части моих духовных записок, я решаю спрятать их от греха подальше и, по благословению отцов, закапываю рукопись в неком секретном месте. Авось когда-нибудь, когда вновь распогодится и выглянет солнышко, откопаю!
Между тем, я, наконец, получаю от начальства позволение совершать в храме все полные службы. Да еще и продвижение, через ступенечку! Теперь я член высшего церковного совета и должен отчитываться не кому-нибудь, а лично Местоблюстителю.
А на днях приходит ко мне одна из прихожанок, лицо совершенно опухло от слез.
– Батюшка, миленький, – шепчет, трясясь от страха, – на вас доносы, пишут и пишут! Вас расстреляют, непременно расстреляют! – И протягивает мне листочек, куда выписала целый список имен доносчиков, в том числе моих знакомых священников.
Я качаю головой, но не в силах сдержать улыбки. Потом рву страшную бумажку на мелкие кусочки. Потом битый час, или даже больше, приходится еще и успокаивать перепуганную бедняжку.
В Колонном Зале проходит съезд обновленцев. Рассказывают, что стол президиума у них покрыт революционным кумачом. Меня чрезвычайно настоятельно приглашают прийти, но на этот раз я решительно отказываюсь.
Вот уже несколько лет я время от времени поддерживаю отношения с одной сельской юродивой во Христе, по имени Матрена. Отцы-старцы относятся к ней с величайшим благоговением. Лично я с ней ни разу не встречался, а только через одну из моих духовных дочерей, которая, краснея от смущения, рассказала, что однажды Матрена ни с того, ни с сего завела с ней обо мне удивительный разговор.
«Да разве ты не знаешь, глупая, – воскликнула юродивая, – он ведь у вас тоже совсем дурачок! Настоящий юродивый! Только взгляни, в какие он тряпки рядится! А какая у него бороденка! Зато ни один бесенок к нему даже близко не подойдет. Я вот ему скоро нарочно одного пришлю, пусть позабавится. Маленького, серенького, вертихвостого. Пусть поспешит, несет его прямо в сумасшедший дом, а не то те-то спохватятся, пришлют к нему убивцев, да не дурачков, а самых умных и безжалостных!..»
Удивление, да и только! Как будто Матрена мои самые смутные, сокровенные мысли прочла. Точнее, я еще сам даже подумать их не успел, а она уже…
Вот я про себя и решаю: ну что ж, дурачок так дурачок, юродство во имя Христово – вещь диковинная, совершенно необыкновенная, однако, чтобы выжить, вполне сгодится. Значит, сам повеселюсь и людей повеселю. Вон, древние аскеты-праведники либо уходили в дикую пустыню жить, либо замуровывали себя в монастыре. А мне куда пойти, где спасаться? Что делать? Как уберечь душу свою от погубления в этом страшном мире, полном соблазнов и многих искушений? Разве что, правда, броситься в огонь и стать купиной неопалимой?