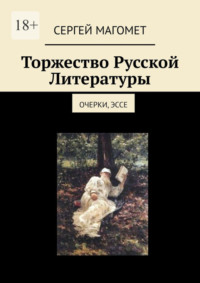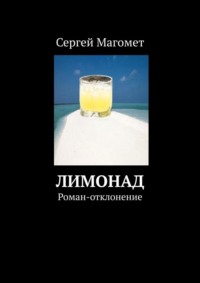Полная версия
Русские апостолы. роман
Что ж, как говорится, нет худа без добра. Зато теперь я точно знаю, кто мои настоящие друзья, – а таких осталось немало. Они нисколько не переменились ко мне. Как бы то ни было, со своей стороны, мне бы не хотелось, чтобы из-за меня, из-за того, что они поддерживают со мной дружеские отношения, у них были какие-нибудь неприятности.
Ночами молюсь, молюсь, многими часами… Однажды сестра застает меня за молитвой среди ночи. Один раз, потом другой.
– Да ты вообще когда-нибудь спишь? – недоумевает она.
И что она ожидает услышать в ответ?
– Только чур, это наша с тобой тайна, никому не рассказывай! – прошу я ее как в детстве. Она кивает. – Вот, хорошая ты. Теперь, пожалуйста, иди спать, а я еще должен за всех за вас помолиться…
Конечно, мысль о том, чтобы принять монашество так или иначе уже приходила ко мне. Однажды даже, покидав вещи в мешок, отправляюсь в один далекий монастырь с твердым намерением остаться там навсегда. К моему удивлению, тамошние монахи советуют мне еще какое-то время пожить в миру, а игумен и подавно категорически против моего намерения, причем не понятно почему. Однако на прощание дает некоторые наставления. Когда я спрашиваю, как же мне дальше жить вовсе без духовного руководителя, он объясняет, что такой руководитель требуется лишь ученику, – да и то лишь для того, чтобы тот начал собственный, самостоятельный путь. Ведь если ученик этот путь не начнет, то, несмотря на первоначальное вразумление, так и зачерствеет, сопреет, сгниет на том же месте.
Благословив меня святой иконой Споручницей Грешных, говорит:
– На радость твоим родным и друзьям и с пользой для твоей души!..
А еще немного времени спустя, я понимаю, почему меня не приняли: такое горькое известие: монастырь этот закрыли-то и совершенно разгромили.
Давно начал подозревать, что мамочка сильно нездорова, но, как всегда, всячески это скрывает. Чтобы нас не огорчать. Стала на тень похожа, бедная. Ужасно тяжело ей одной тянуть лямку… Поэтому как только сестра выходит замуж и переезжает к супругу, после некоторых колебаний, я всё-таки решаю бросить учебу на медицинском и устраиваюсь сортировщиком почты в комиссариате Образования, а также подрабатываю курьером. Денег на прожитье нам с мамой много не надо, но и их еще нужно заработать.
Увы, увы, никто из нас не подозревал, насколько серьезна мамина болезнь… Однажды мама встает поутру, хоть и с огромным трудом, моет полы, окна, стирает, варит перловый суп. Только к вечеру ложится в постель и зовет меня.
– Вот, – спокойно говорит, – скоро помру, позови, пожалуйста, священника…
Исповедуется, причащается. Лежит, уже совершенно без сил, ни кровинки в лице. Как будто ждет чего-то.
– Что, мамочка? – спрашиваю.
А немного погодя приезжают и сестра с мужем. Их-то приезда она и дожидалась… Попрощавшись со всеми нами, мамочка закрывает глаза, как будто засыпает… Вот, и улетает ее душа к Богу.
Скоропостижная смерть мамы повергает меня в такое отчаяние, что когда приходит повестка о призыве в армию, я чувствую почти радость.
Сначала хотят записать в пехоту, но потом передумывают. Парень, говорят, такой долговязый, что враз демаскирует всё подразделение. Пусть лучше побегает, длинноногий, в роте связистов.
К сожалению, командиры-начальники, как только увидели, что я крещусь перед едой, сильно меня невзлюбили. Орут благим матом, да только я, по обыкновению, ни слова в ответ. Только молюсь про себя. А они, кажется, могут читать мысли, и от моей молитвы еще больше ярятся. И наказывают по всякому – оплеухами или сажают в «холодную». Потом прознали, что я ношу в вещмешке крохотный молитвенник, и тут же отобрали, ― чем ужасно меня сначала огорчили. Однако я сразу получил утешение свыше: оглянулся вокруг и ясно увидел Слово Божье повсюду ― в небе-облаках, деревьях, бегущей в речке воде, в каждом кусте…
А однажды, на привале во время долгого марша, вместе с другими падаю без сил навзничь на пригорочек, чтобы перевести дыхание. День сырой, промозглый. Молюсь, смотрю в небо, а там ― вдруг небеса отчистились, заблестело солнышко. Простор, вселенское умиротворение. И сразу почувствовал такую радость и благодать, словно оказался с самим Христом, словно услышал Нагорную Проповедь из Его собственных, священных уст. Кажется, никогда в жизни не испытывал подобного блаженства и счастья…
Немного погодя меня переводят в санитарную роту.
Отслужив срочную и возвратясь в Москву, начинаю ходить в один московский монастырь и, получив благословение, иду в духовные ученики к монаху Симеону, опытнейшему старцу. А через некоторое время вновь заговариваю с ним о моем по-прежнему твердом, сильнейшем желании тоже стать монахом. И он одобряет.
Тогда и вовсе переселяюсь к нему, живем вместе в его крохотной келье. Дорогой батюшка не жалеет сил, чтобы подготовить меня к посвящению. При этом всегда напоминает: если уж решил сделаться монахом, то единственно ради одного – спасения своей души. Остальное – пустое и побоку. Одного этого достаточно.
В волнении и нетерпении объясняю батюшке, что вот и мне бы хотелось воспитать в себе самом такое духовное понимание, какое мы видим в светоносной святоотеческой литературе у наших великих отцов-подвижников и угодников Божьих.
С улыбкой милый батюшка говорит:
– Их понимание происходит через их великую чистоту, чадо! Куда нам до них!
Я не знаю, что сказать. Но в душе изумляюсь: да ведь кто как ни батюшка Симеон живет в этой великой, истинной чистоте, которую невозможно подделать?!
Еще задолго до революции в бытность свою молодым монахом и деревенским иереем, батюшка отправился на фронт фронтовым капелланом, прошел две страшных войны, был в самом пекле на поле боя вместе с солдатами, выносил раненых, причащал умирающих, погребал погибших.
Однажды умирающий солдат – в смятении и предсмертной тоске – спросил его:
– За что так страдаю-то, отец?
– За Веру, Царя и Отечество, милый, – утешил его батюшка Симеон.
Солдатик улыбнулся и, совершенно успокоенный, отошел ко Господу. И дело тут вовсе не в словах, пусть и таких возвышенных. А в том, что произнесшего эти слова отличала необычайная духовная чистота.
И теперь, я знаю, в маленькой железной коробочке батюшка бережно хранит свои фронтовые награды, полученные за храбрость.
Вот, наконец-то, принимаю постриг, а также новое, иноческое имя. Меня облачают, как положено монашествующему, и подводят к архимандриту, который говорит:
– Смотри теперь, ты начал жизнь сызнова! Оглянись вокруг, видишь, это бесы черные, смердящие скрежещут зубами от ярости и вопят: «Вот, он уже был почти наш, а теперь стал монахом! Ату его! Ату!..» Да только ты не бойся, милый. Вот тебе могучее оружие против них… – Тут архимандрит протягивает мне в подарок четки. – Помни лишь одно: бояться следует только Бога! Будет в тебе страх Божий – всё превозможешь!.. Храни тебя Господь, чадо!
А еще дорогой батюшка Симеон шепчет мне:
– Приобретешь смирение – приобретешь всё. А нет смирения – то и нет ничего. Даже если ничего в жизни не сделаешь, а будешь иметь смирение – непременно спасешься. Через него одно – через смирение… Так что теперь, чадо мое возлюбленное, тверди себе постоянно: «Я монах, принял особый обет, чтобы претерпеть любые упреки, наветы, вражду и преследования. И если терплю оные, то, значит, счастлив, значит, мое монашество настоящее, а не притворное…
Как чудесно он это сказал!
Потом батюшка признается, что на его памяти за последние несколько лет мой случай первый – когда человек принимает обет смирения и монашеского послушания.
– Теперь-то всё наоборот, – говорит он, – теперь люди, как с цепи посрывались, хотят свободы от любых законов вообще. При этом чтобы быть для самих себя единственным примером и образцом добродетели. Даже учителей учат, как надо учить…
Потом и он торжественно меня благословляет.
И правда, вижу, что этот мой поступок необычайно впечатлил моих знакомых, особенно, молодежь ровесников, хоть и прежнее отношение их ко мне было различным.
Я совершенно счастлив, теперь мне позволено жить в монастыре в крохотной комнатенке при монастырской часовне, хотя официально монастырь закрыт уже давным-давно. Я полностью переехал сюда из дома, что весьма кстати для сестры, которой прежде приходилось жить с семей у свекрови, где и так полным-полна коробочка, да и далеко. Кстати, сестра почему-то до сих пор считает, что ее долг и обязанность обо мне заботиться и всячески меня опекать…
По батюшкиному благословению работаю в библиотеке Донского монастыря – сортирую старинные тома. Работа как раз по мне, вот только… Именно здесь, теперь я наконец понял, что через одни книги как таковые, какими бы хорошими, даже святыми они ни были, наследовать Царствие Небесное никак невозможно. Куда важнее взращивать в себе самоотверженность, бескорыстие, любовь и чувство сострадания.
Вот, даже восклицаю про себя: как оно чудесно, как изумительно, это мое «сейчас»!
Лето страшно жаркое, дымное, так и норовит задавить духотой, а вот, поди ж ты, я то и дело оказываюсь в нежданном тенечке, могу освежиться, сделать несколько глоточков прохлады. Правду говорят отцы, что первоначальному монаху непременно посылаются для укрепления эти чудесные дары, эти состояния наивысшей безмятежности и отдохновения – чтобы в ближайшем будущем он имел в себе достаточно сил для перенесения великих скорбей и страданий… Ну что ж, я-то решительно определился.
А ведь и в самом деле, буквально на каждом шагу ощущаю, что Господню помощь и поддержку. Взять хоть следование монастырскому уставу – оно мне ничуть не тяжело, ни многие молитвенные правила, ни неукоснительные посты.
Работая по послушанию, я получаю пропитание либо в храме, либо в библиотеке. О чем еще можно желать, я всем доволен! Теперь мне даже удивительно: как, оказывается, мало мне всегда было нужно, – а я и не знал! Именно этого я всегда и желал, к этому всей душой стремился.
Только вот сестра говорит, что я стал уж совершенный хвощ. Нет-нет ей удается передать мне в монастырь кусочек пирога или еще что-нибудь, чтобы я подпитал себя, но я сразу отдаю все гостинцы тем, кому нужнее, чем мне. Каким-то образом она прознала про это и разрыдалась, бедняжка.
Между тем, несмотря на то, что ее слезы меня, конечно, очень огорчают, я с восторгом чувствую, что у меня уже твердо начала вырабатываться эта чудесная привычка, почти механическая – сразу, без колебаний отдавать людям всё, что только они у меня ни попросят… Пробую объяснить это плачущей сестре, да только она никак не может понять моего счастья.
Из библиотеки в Донском обычно приходится возвращаться поздно вечером. Уже совсем темно, фонарей, понятно, никаких. Кое-как, почти на ощупь, пробираюсь по улицам-закоулкам, ночным аллеям, с самыми горячими молитвами к ангелу-хранителю и небесным заступникам от лихих людей.
И надо же, в самый первый день натыкаюсь на местную шпану. Случай почти анекдотический. Само собой, я уж заранее убеждал себя, что в подобной ситуации мне как раз следует воспользоваться случаем и попрактиковаться в христианской кротости: безропотно отдать всё, что у меня потребуют. Ночь выдалась теплая, и я, уставший, как собака, присел по пути в парке под дерево и задремал. И довольно крепко. А просыпаюсь оттого, что кто-то меня ощупывает-тормошит. Спросони показалось, что это крысы, – а этих тварей я ужасно боюсь. Мгновенно вскакиваю на ноги, принимаюсь прыгать и размахивать руками, как мельница, в ужасе вопя: «Караул! Крысы, крысы!..» Зрелище, надо думать, еще то – при моей худобе и двухметровом росте, бесформенной монашеской рясе и черепе с чуть отросшей после военных лагерей щетинкой волос. Понятно, при виде такого чуда грабители отскочили от меня как ошпаренные, пустились наутек.
Только в другой раз выходит не так смешно. Не растерявшись, вытаскивают ножи, обирают дочиста. Впрочем, и это к лучшему: ведь теперь им известно, что у меня более ничего нет, что я всего лишь бедный монах. Теперь, узнав при встрече, пропускают даже без обыска, ибо нечего с меня взять. Какое счастье ничего не иметь!
Вот, счастливый, возвращаюсь в свою каморку при колокольне, кладу под голову полено заместо подушки и засыпаю как младенец.
Однако бдительности никак не теряю, хорошо понимая, что монаху следует ежеминутно быть начеку, поскольку заклятый враг только ищет случая и может напасть в любой момент. Причем даже чаще не через помыслы, не изнутри, а в самом реальном и богомерзком виде. Об этом и святые отцы всячески предупреждают. Помню, и дедушка учил: таись, скрывайся, не буди лиха. А как возомнишь о себе чуть-чуть, так непременно – или вдруг разбойники налетят, а то на тонком льду провалишься.
В общем, у меня такое чувство, что теперешняя – самая спокойная пора моей жизни, не только прошлой, но и будущей. Единственная наша забота и чаяние (отца Архимандрита, батюшки Симеона, нескольких пожилых прихожан и, конечно, моя) – это как бы получить разрешение и официально открыть наш закрытый монастырь, – ведь мы, бедные, до сих пор «безлошадные», негде нам приткнуться. Вот, кажется, и нынешние власти стали куда как терпимее к вере: не запрещают нам служить, помимо обычной службы, еще и по монастырскому уставу. А уж мы-то сами как стараемся, молимся денно-нощно… И, слава Богу, вроде бы сообщили от начальства, что наш вопрос попал в сочувственные руки и вскоре решится благоприятно.
Чтобы уж наверняка, я удостоен великой чести – отправиться в Сергиеву Лавру, место святейшее из святейших, и там вознести молитвы об успехе нашего начинания.
Ночь на пролет длится служба в кафедральном соборе, а затем тамошний игумен подводит меня к самой раке, приоткрывает крышку и позволяет приложиться к мощам нашего несравненного Преподобного.
– Что ты ощутил, милый брат? – спрашивает меня Владыка.
– Как будто, – отвечаю шепотом, – погрузил лицо в благоуханный розовый куст, и я весь наполнился неизъяснимой радостью!
После чего, обливаясь умилительными слезами, молча прячусь в уголке.
Мысли о моем прошлом, если и приходят, то почти не беспокоят. Что поделаешь, то была сплошная суетность – и в увлечении живописью и медициной, – никак не отзывающаяся в нынешней моей жизни, истинной, подлинной. Что было, того не изменишь. Увы, пришлось раз и навсегда распрощаться со всеми старыми друзьями-приятелями, которые совершенно не понимают, как и зачем я живу, что такое моя жизнь.
Оглядывающийся назад никогда не достигнет Царствия Божия. Единственное, на что надеюсь и чем утешаюсь: может быть, когда-нибудь смогу послужить дорогим друзьям в будущем…
Иду по улице, а навстречу большая компания моих прошлых товарищей-живописцев. Обрадовались, затащили к себе в студию, им, видите ли, пришла охота использовать модель живописного молодого монаха, а тут как раз я в своей монашеской ряске, с котомочкой. Усадили, напоили чаем, позировал им часа два. Эта случайная встреча вышла вроде нашего прощания.
А еще через некоторое время сестра передает, что один из друзей написал мой портрет – в полный рост, большого формата, и теперь картину даже повесили в центральной галерее. Так и вишу теперь. Да еще название присовокупили. Что-то вроде: «Русь уходящая. Молодой монах». Я от удивления чуть языка не лишился. Вот, как лукавый надо мной потешился!
История с портретом, конечно, пустая, смех да и только. Но мне-то известно, как бесы действуют. Хитрят, стараются усыпить бдительность, поначалу обходят нас серьезными нападениями, как будто вокруг всё тихо-безмятежно – в этом и есть первейшая вражеская хитрость.
Во время службы в храме стараюсь быть предельно внимательным. Но это очень трудно. К сожалению, частенько бываю рассеянным. Помнится раньше, частенько мелькала мысль в осуждение: какие все эти монахи нерадивые да ленивые. А теперь-то каково самому сохранять усердие и молитвенную сосредоточенность!
С другой стороны, приходится признать, что нет-нет, а бывают моменты, когда вера моя как бы ослабевает… А без веры православной русский человек что – тут же впадает в тоску беспричинную, без конца жалуется, ноет…
А если подумать-рассудить, то, по совести, я ведь нисколько не переменился. Всё тот же: одержимый страстями, весь в грехах, как в шелках. Хоть и грустно от такой мысли, но все-таки ни за что не хочу поддаваться унынию. Наоборот, прибавлю рвения, буду бить грехи со страстями еще более ревностными постом и молитвой!
Всё мельтешня, мельтешня какая-то… Да ведь и она может извести, утомить до полусмерти! Как будто зуд какой-то, неопределенный, внутренний: жаждешь чего-то лучшего, истинного, а выходит обратное: слабеешь, впадаешь в немощную праздность и лень. Как это бывает: например, мы рассуждаем: «Мало молимся, да, и молитвы наши недостаточно горячи. Ну ничего, вот скоро разрешат открыть монастырь, тогда будем горячо молиться, со всем усердием…» Какое страшное заблуждение!
Однажды впадаю в такое жуткое уныние, что как ошпаренный бегу к отцу Симеону:
– Как тяжко, батюшка! Как тяжко же мне!
А он:
– Тяжко? Так ли? Пустяки. Что Господь говорил? Коли мы каемся, то грехи наши нам прощаются. Но где ты прочел, что нам обещано, что мы доживем хотя бы до завтра?.. Запомни хорошенько: близко время, когда принести церковное покаяние и причаститься ты сможешь не чаще раза в год. Если вообще сможешь тогда отыскать доброго пастыря… Но, смотри же, не вздумай исповедоваться первому встречному, даже если будешь лежать на смертном одре! И, что бы ни происходило, всегда будь готов каяться Господу. Тогда сподобишься Божьей благодати и Христа ради сможешь благодушно перенести любую скорбь… И молись, дорогой мой! Молись непрестанно!
Он, конечно, прав. Не тяжесть это у нас – а безмятежность…
Посреди этой безмятежности случилось всё же одно происшествие, оставившие весьма тяжелый осадок.
Ходил к нам одно время брат Ферапонт, настоящий странник, вроде блаженного, живущий исключительно подаянием, но очень, очень смирный. А потом явилась женщина и сообщила, что своими глазами видела, как рядом с Красной Площадью, прямо у входа в ГУМ Ферапонта арестовал милиционер, учинив ему допрос, кто такой и откуда. Ферапонт стал объяснять милиционеру, что он всего лишь бедный монах, ходит из города в город, несет слово Божье. Ах, ты такой-сякой, занимаешься пропагандой и агитацией! – напустился на него милиционер. И увел с собой. Более нашего Ферапонта с тех пор никто и не видал.
Вот уже целый год прошел, как я принял монашество. Кажется, здесь, в моей монастырской комнатенке я приобрел столько веры, сколько не приобрел и за всю свою жизнь.
Конечно, у нас всё еще не настоящий монастырь – просто мы между собой так называем: монастырь. В действительности, это старый дровяной сарай, который мы разделили на две кельи, в каждой по маленькому окошку и железной печурке. Батюшка Симеон и другой пожилой старец – оба живут, строго соблюдая положенный монастырский устав. Другие несколько человек и священники – приходят, чтобы вместе помолиться. Мы по-прежнему надеемся, что в конце концов получим от властей долгожданное формальное разрешение и станем настоящим монастырем.
Теперь в нашу церковь назначили молодого батюшку Михаила. С неукоснительной аккуратностью он молится об устройстве монастыря, хоть монашеский дух ему явно не по нраву. Да и веры особой у него нет. К тому же всем известно, что он осведомитель органов, не менее скрупулезно собирающий сведения обо всех церковных людях. Естественно, от него стараются держаться подальше: дескать, сам он служит двум господам. Но еще удивительнее, что он и сам, будучи очень «открытого нрава», этого ничуть не скрывает. Наоборот, при каждом удобном случае начинает объяснять, что таким образом он, якобы, наводит мосты с властями, мол, только «проформы ради» и для «статистики».
Особенно этот батюшка любит исповедоваться отцу Симеону, непременно ему, входя во все подробности. Можно себе представить, что приходится выносить моему дорогому батюшке, когда перед ним, даже с каким-то наслаждением, обнажается сей срам. А ведь священник-исповедник связан клятвой хранить полное молчание насчет всего услышанного от кающегося, не может даже никого предупредить. После каждого такого «покаяния» батюшка совершенно темнеет лицом, опускает несчастные глаза.
Ну вот и началось. Одну женщину, незнакомую, арестовали. Потом передают от нее письмецо. Бедная недоумевает, за что ее посадили. Это «ни за что» ее страшно мучает. Сказали, якобы, «за религию». По какой-то пятьдесят восьмой статье. А ведь религия у нас не запрещена!.. Теперь она ломает голову, что это вообще за пятьдесят восьмая статья такая. И арестовали-то ее в один момент – увели как была, в одной ночной рубашке, без чулок, без верхней одежды… Теперь сидит в тюремной камере – даже прикрыться нечем. И, конечно, с собой ни копейки денег. Дают только кипяток да цвелый хлеб. – ни чаю, ни сахара. Это «на завтрак». В обед и ужин половник горячей баланды с кашей.
Понятно, в нашей крохотной общине самые мрачные предчувствия…
Только утренняя началась, все наши собрались, как заходят двое, с винтовками, в зубах папироски, и объявляют:
– Никому с места не сходить! Сейчас будем арестовывать!
Достают список для проверки. А нас как раз всего двенадцать трепещущих душ, включая батюшку Михаила и меня.
Батюшка Михаил так удивлен, что и говорить не может, только что-то мычит. Он почему-то тоже в арестном списке ГПУ, наравне с остальными.
Затем нас выводят из храма одного за другим, выстраивают гуськом. Так и идем пешком до самой тюрьмы этой странной процессией, а путь не близкий. При этом нам строго-настрого запрещено разговаривать во время движения, ни слова, иначе, говорят, «будет еще хуже». Что такое «еще хуже», не говорят, один Господь ведает.
Идем, впереди шагают наши стражники, продолжая курить на ходу, разговаривают о чем-то, смеются, даже не давая себе труда оглянуться, как мы там, может, уж все разбежались. Но мы не разбегаемся, покорно плетемся следом. Бежать никому и в голову не приходит. Между тем отец Михаил, вот он то и дело беспокойно озирается и оглядывает нашу группу, чтобы никто не отстал и не потерялся, подгоняет жестами, словно назначен над нами ответственным. Он тоже не решается вымолвить ни слова, хотя видно, что его распирает недоумение и он, конечно, хочет спросить стражников насчет себя.
Я шагаю следом за отцом Симеоном, который семенит по тротуару весьма живо. Остальные плетутся, тяжело отдуваясь, поспевая еле-еле. Не прошли и километра, как другой священник из нашего храма, престарелый и слабый, совершенно выбившись из сил, шепотом говорит нам, что пусть уж будь что будет, а он поворачивает назад.
– Я ведь даже храм не запер, – вздыхает он.
С ним поворачивают и две наши старушки, обливающиеся потом, ловящие ртом воздух, словно вытащенные из воды караси. Нету сил поспевать за вами, говорят. Так совсем и пропадают из виду, а стражники, когда приходим на место, сделав сверку со списком и обнаружив убыль, ярятся и ругаются ужасно.
Впрочем, уже на следующий день две отставшие старушки являются в тюрьму добровольно. От них мы узнаем, что престарелый батюшка, ужасно расстроенный, едва вернувшись вчера домой, лег на кровать и умер.
– Вот те на, – качает головой начальник и арестовывает старушек.
Сижу в камере. Людей здесь, как сельди в бочке. Теперь понятно, почему говорят «сидеть». Ибо сидим все на полу, прилечь невозможно из-за тесноты, даже на пол между нарами. Грязь-духота невообразимые. Вещей у меня никаких. Только то, в чем взяли: хлабудная ряса, крохотный образок да нательный крестик. Удалось раздобыть клочок оберточной бумаги. На нем пишу записку сестре. Уже несколько дней сидим, а они даже не говорят, за что нас упрятали. Из всех наших следователь вызывал только батюшку Симеона.
– Засудят меня, стало быть, за Апокалипсис, – сообщает нам батюшка, вернувшись.
– Как это?
– Во время проповеди я однажды говорил из Иоанна Богослова, что «Христос придет и низвергнет врага». Вот за это.
Между прочим, даже до следствия, я твердо решил про себя, что не стану ни как оправдываться. И сразу словно гора с плеч свалилась: больше не надо мучить себя мыслями, и так и сяк придумывать, как бы исхитриться и выпутаться. Все эти хитрости только беса повеселить, который сам хитрец непревзойденный, и уж как-нибудь в конце концов перехитрит человека.
Наконец и меня выкрикивают к следователю. Вскакиваю, иду за конвойным. Следователь плотный деревенский мужичок, чуб паклей, шея брита, ясный взгляд. Сразу понимаю, что никаких особых обвинений мне предъявить у него нету. Только монашество да религиозность.
– Ну, – говорит он хмуро, – рассказывай всё.
– А нечего рассказывать, – отвечаю.
– Это ты брось, твою мать, – настаивает он. – Будешь сотрудничать со следствием, выйдешь на свободу. Вот, ты, твою мать, еще совсем мальчишка. Ты мне нравишься. Говорят, ты в музее есть, с тебя, твою мать, картины пишут. А так погубишь себя. Зачем?.. Вот что, давай снимай-ка свой крест, клади вот сюда на стол и бросай этих монахов. Договорились?