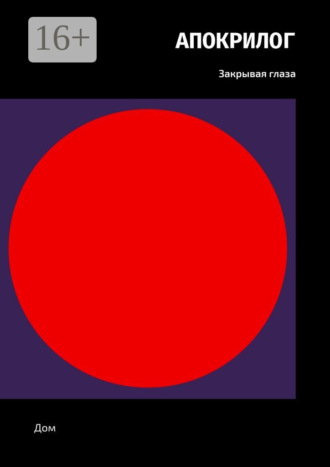
Полная версия
Апокрилог. Закрывая глаза
И вот я наблюдаю слизкий торфяной сапог на ноге у позеленевшего трупа. Тут такие все: болотно-зеленые, липкие до отвращения, пованивающие ставочной сыростью.
У особей женского пола корпуленция крупнее и мощнее, чем у мужского. Пастозно-расплывшаяся вязь кожи надута равномерными вздутиями мышц, из которых, точно из кальдеры вулкана, извергаются унылые струйки зеленых миазмических газов, откуда источается необычайная вонь, – так они дышат. Их липучести могла бы позавидовать самая въедливая и примитивная пиявка акантобделла. В нутре каждого булькает множество жаб, с глухими выхлопами газов, – от чего создается впечатление, что их беспокоят метеоризмы. А те накожные волдыри – последствия таких процессов. Они то уплощаются, заглатываясь животами, то раздуваются шарами, источая смрад. Мужские особи – плаксивые и угодливые дохляки, цвета высушенной шкурки лягушки. У них изъеденная лысиной, грушеобразная голова, с серпообразным промежутком редких, но длинных волос, окаймляющим затылок. Кожа буквально обтягивает скелет с органами, так, что может показаться, что перед вами пришелец.
Самый распространенный лозунг этих провинциальных неврастеников и ипохондриков: «Не торопи улитку». В сточных каналах и водопроводах бурлит очередная порция застоявшейся и зацветшей воды, порционно торопящейся во все краны на завтрак, обед и ужин. Ею же со всей леностью убирают помещения, как и, впрочем, следят, чтобы эта вода никуда не убежала, – у неё были все шансы ожить, подобно святой. Можете себе представить, каков ассортимент древнейших, недавних и сегодняшних паразитов и микроорганизмов там безостановочно размножается? От миазмов, разгуливающих по помещениям, предметы мебели не стоят – а летают, припускаясь к полу в промежуточных сменах потоков. Чем дольше я всматриваюсь в этот унитаз зрелищ, – зажмурив глаза, и стиснув рот и нос, – тем больше я благодарен тому, где пребываю сам. Хотя, в дальнейшем, вы поймете, что это всё относительно. Но без этих карапузов-гомункулов, я, вероятно, и того не имел бы. Чего только стоит громкая слава работы в свое удовольствие и для себя! К этому прибавить постоянный интерес со стороны окружающих к разрешению моей дилеммы с напитками, и… Но в это пока ещё рано вас поверять, но я обещаю – вскоре тучи рассеются!
Так вот… если говорить о растительности на этом черепке, то она, по большему счету, вьющаяся, как паутинообразный мох, покрывающий почти каждый приземистый дерновый домик. На дворе виднеются разветвляющиеся к участкам, тонкие извилистые дорожки, вымощенные ребрами камней в форме чешуи, которые покрывает толстый слой улиточной слизи, за долгое время успевшей загустеть в скользкий каток. Да-да, именно улитки! – болотные прудовики, размером с ваш кулак. Здесь они являются, наряду со священной болотной жижей водоканалов – почитаемыми брюхоногими! Они здесь везде: чего стоит та же трубопроводная водас их слизью. И если кому-нибудь на пути встретится это существо, его обгонять не станут – по традициям, – а будут терпеливо плестись вслед.
Если же в прошлом черепке все куда-то торопились, то здесь, напротив, все движутся в темп улиткам, – вяло и бесформенно влачась. Но, как ни странно, столпотворения здесь – явление редкое; большинство чахнет в стенах собственных домов-теплиц. Неистребимо здесь и постоянное гудение, жужжание и зудение насекомых, в частности – зеленой падальной мухи, которая чем и любит полакомится, так это выделениями самих жителей, что, кстати, для них обращается в фиаско: не успев приземлится на объект желаний, крупные нательные поры рутинезийцев всасывают их в себя, – получается, как дополнительный бонус к рациону питания гомункулов, – так сказать – разнообразие.
Время тянется подобно смычковому глиссандо, режущему струны до того затруднённо – как нож по волосам, что струны и каждая расстроенная струна в отдельности, лопаются со звуком выдранного седого волоса из бороды старика. Эти звуки высохших капель слез выкидыша можно слышать отовсюду: чаще – в трубопроводах, а на улице – в занавесях частичек тумана, адвектирующих по городу зябкой рефракцией свечения лунного ночника.
До того момента, как я направил сюда ночник, здесь царили ясные сумерки.
«А дети? Куда запропастились дети?!» – спросите или возопите вы в недоумении. А как же… а как же головастики?! Здесь они в самом воздухе. Время протекает; они постепенно утяжеляются, оседая всё ниже и ниже над землей, пока не преобразуются в одутловатые, желеобразные жестянки по подобию родителей. Ах да, проживают то они отдельно, в яслях экологически загрязненного пруда. Соответственно моим наблюдениям, на уме у этих слизняков только одно: «обделать всё подчистую», и, в дальнейшем, «забродить комнатной зеленушкой».
За всеми этими наблюдениями я совершенно потерял из виду Марту с Фелиной. Решив унюхать их по запаху, я всунул голову в планету, в надежде, что уж мой-то нос их не проморгает и засигналит, дав знать чихом. Ан нет… Понеслась такая канонада чиханий, что отодвинутый вбок ночник, увеличивший сумеречную приглушенность света, сыграл со мной злую шутку: мое лицо, порозовевшее удушьем, приобрело устрашающий отлив цвета вызревшей фуксии, наряду с покрасневшими вспученными глазами. Со всей прытью, закашливаясь и задыхаясь, я вынырнул. (Хочу добавить, что внешнюю видимость я приобретаю только в случае прохождения через границу атмосферы черепков).
Жители, бывшие в сей час на улицах, перепугались вторжению одичавшей небесной рыбы; их медлительность мигомсняло как рукой: глаза на лоб и давай гопака, не обделяющего ногами чтимых улиток; улицы уподобились сплошному катку. В тот же момент меня пробрала мысль: «Что бы было, если бы кто-то это выпил?» Он, верно, прежде бы задохнулся от вонизмов. А если нет – его бы поразила цианотоксискация с насморком, кожной сыпью и раздражением глаз. Их хоть какупотребляй, – хоть внутрь, хоть наружно, – а пропали они насквозь, желая и тебе того же.
Н-да, мое вторжение жители запомнят надолго! Сейчас вижу, как все размелись по домам, повключали свои телевизионные приемники, передающие «свежие» новости, полемизирующие несварением и пуканьем прошлых застоев. Все бесконечные 24 часа в сутки один и тот же канал «Залипание», перемежающий повседневную программу сплетен – мониторингом продвижения воды по трубопроводам, канализациям и стокам. Программа сплетен включает всю газетную утку: во сколько кто вышел из дома, во сколько кто зашел. Для интриги и наглядности, корреспонденты подчас подстерегают у дома очевидцев и заядлых инсинуаторов, чтобы те вновь пропололи поросшую быльем, уже мертвую несколько веков, замученную «утку». Опрашиваемые уныло перечисляют движение по прямолинейной траектории (если те «пропалывают» относительно головастиков), которую «взрослые жабы» дополняют восклицающей точкой на конце.
А встречались ли им какие-нибудь подводные камни, «новые» святые или «новые» экскременты? Да нет, вряд ли; ими здесь только пахнет, но вот «пахучие» сплетни – деятельность, распространенная на этом торфяном бурдюке, и является основным видом деятельности, хоть и выжившим себя с зарождения планеты из-за застойных процессов. Буквально говоря, все инсинуации о соседях и жителях – это компромат на себя же, и на всех себе подобных. Однообразие и сакраментальность являются для них корнем пиетета атавизму предков. Может поэтому их трубопроводные жилы такие безнадежно зацветшие, а недоатрофированные рты издают чревовещательное кваканье, родящееся из недр стертого знания своего «Я»?
Они заглатывают болотную жижу, пытаясь восполнить брешь. Корни их «Я» разрослись изнутри как перекати-поле, приращивая гомункула к любой питательной для себя среде – наподобие липучки дурнишника. Таким образом они цепляются к любой подходящей поверхности, чтобы насытить свое атавистическое эго. Рутинези́я – это планета Вы́зрелость, смерившаяся и впрягшаяся в безвыходность; это затянувшийся этап старости, морщин и неправильно использованного времени .
Планета заждалась должного обращения и уважения к своей персонализации, и с какой стороны её не возьми – везде одни дети и внуки, на плечи которых эти обязанности и ложатся – как липучки на одежду. То и дело им кажется, что «тут уже ничего не попишешь», и «время ушло, какие еще перемены, если вода, наполовину пустая, отлично устаканилась, осадок осел на дно и лучше уже не баламутить», при том, что эта вода – осевшая она или нет – всегда травила их изнутри цветением и размножением сине-зеленых водорослей атавизма традиций.
Несомненно, вы можете возразить моей предвзятости, указав намойтеперешний застой, ничем не лучше их, – мол, доживаю в одиночестве, без посетителей и в кромешном мраке… Однако вам стоит уяснить одну существенную вещь: все вы – мои протеже – творения моих «рук», соображений и бескрайних фантазий. Я увлечен идеей, охватывающей все восемь черепков моего клуба, включающей вас, что означает, что я всемогущ.
Белый лист напичкан правилами, алгоритмами, канонами, формулами, которых вы должны придерживаться, выполняя работу, а на чёрном – никаких правил, есть только свобода фантазии и раскрепощенности, где стирается грань между сознательным и бессознательным, высвобождающим вашу сущность. Белый лист – для черной работы ума, черный лист – для белой работы души.
Также вам захочется упрекнуть меня в том, что всё в вашем пожизненном сне происходит слишком быстро, внезапно. Но, позвольте, у меня ничего не бывает внезапно… и, прежде чем что-то предпринять, я долго наблюдаю, порой многими веками, эпохами, эрами и эонами… Я могу наблюдать бесконечно долго, ведь с вами нужно экономить энергию! Вы умудряетесь её тратить за раз.
А насчет тех рохлых лягушонок, придавленных камнем, – им бы черепашьего спокойствия и мудрости, а не упрямого преследования эха прошлого. Реять бы им в океане, а не быть на замусоренном приморье, прячась под камнями, либо с камнем на короткой бычьей шее, который не столько губит, сколько мучаетпри любой попытке движения и высвобождения от гнёта. Влившись в бесконечность, ветер-спешка вас больше не потревожит, – там, на дне, всегда спокойно. Безмятежность делает фокус ваших глаз ясным; вы начинаете замечать много интересного вокруг, прямо сейчас – под ногами, и над головой. Не торопясь, как та же черепаха, ни за что не применяющая бездонные просторы на бесполезное кваканье, можно прожить бесконечно насыщенную жизнь, а в спешке – только мгновение до смерти, которой, кстати, я неизменно вас обеспечиваю, по мере поступления жалоб на жизнь. Смерти у меня завались! Но что такое смерть, если не начало новой жизни, преобразования, очищения, омовения, воскрешения, крещения – что прекрасно! Однако не теперь. Теперь уже не время разлагаться: я, напротив, обязуюсь пробудитьих к жизни, чтобы исполнить своё горячее желание, пока что истощенное анорексией их немощности и слабости.
Теперь они собрались на каком-то семейном заседании, сгрудив всех близких и дальних родственников. У старейших из них – родоначальников корней, имеются багажники раковин, в которых и перевозятся все остальные разветвления родственников, высящиеся вверх – к верхнему острию раковины прапраправнуков и прапраправнучек.
Звучит граммофон; за окнами, поросшими лишайником, напевает прочная серебряная нить паутины: она напевает теми вздохами и выдохами, которые сопровождают поедание червей, кильки, ящериц и свежевыдавленного соуса из личинок мух-падальниц. Льются обмены трюизмами информации, как всегда – самыми «горячими», к «горячему» столу. Перемываются кости останкам давно съеденной рыбы; пахнет непринужденностью и заплесневевшим уютом устаканенного, привычного проживания. Но зачем, скажите, я трачу энергию своей лампы, если они не замечают освещения? А, может, просто не различают? Крыши домов, нагроможденные обвисшими безразличной сонностью коврами земляных залежей торфяка и залатанные загустевшей слизью, загрязнениями фекалий великолепных мастеров-улиток, впадают увесистыми ушами бассет-хаунда в землю, – и ни единой неровности и зазноба. Да, теперь это всё, что мне остается – описывать крыши, пока из дымохода виднеется струйка единения… Будем верить, когда-нибудь я увижу тепличный туман над этой планетой-единством.
Один треугольник светильника, подвешенный на свисающий ножке, – точно выдернутый глаз на зрительном нерве – на расстоянии ладони к приземистому столику, – неустанно раскачивается от газов, источаемых рутинезийцами. И чем больший интерес привлекает «избитая тема», тем стремительнее извергаются зловония; тем горячей, и въедчивей исторгается клеевая вязкость из клапанов пор.
В конце концов люстра закружилась вокруг них не хуже аттракциона «Катапульта». Двери открываются и захлопываются сами по себе; стены с мебелью землетрясутся, зудя как набитые стиральные машинки, сливающиеся в душераздирающее тремоло, норовящее заглушить назализацию противных до заворота ушей, причитаний, брюзжаний, злословий и роптаний.
Вы только посмотрите на эти физиомордии: лягушка, которая увидела шимпанзе и невольно оттопырила губу! В то же время в зеленых выпученных глазах мужей сверкает туалетный вагончик, который вот-вот прибудет на пристань облегчения. Лампа, обдаваемая парами, набирает обороты, раскручиваясь пропеллером, пока те – как вроде невмоготу – вспыльчиво вскакивают со стульев, тихо ускользающих из-под задов.
«Ква-ква-а-а! Пк-па-ма, пк-па-ква!» – зовет их с улицы пришедший сын, внук, правнук, прапра… прапрапра. Он вернулся с какого-то увеселительного заведения, вроде ставка. И так как ритуал запуска непросвещённых – в доверительное таинство инсинуаций – здесь особенный, то головастик, терпеливо клюющий носом у порога как не переваренный сорняк, будет слышать уже сквозь уводящие незабудки сна, сперва то, как с грохотом попадают на пол все доселе летавшие стулья, а затем уже в сына, внука, слизняка и сорняка начнут вкачивать всю пропущенную предысторию и вводную часть заседания, не преминув и про основную часть. Причем все эти части будут чередоваться разными голосами, которые, если дослушать проповедь до конца, он обязан будет распознать, огласив участников (а в ведении в заблуждение будут принимать участие непременно все родственники). Если отгадает – его впустят и тотчас раздастся гомон, как до его прихода, и лампа вновь займется мельницей взбивать и распространять потоки ароматов; сидушки стульев вспорхнут без груза, как бабочки к небесам. А не отгадает – родственнички, томно вздохнув, раздосадовано склонят голову к плечу соседа, похлопав его по спине, – «ничего, мол, бывает».
Эх… устаю я за всем этим наблюдать. Отвел лампу, чтобы отдохнули глаза от этих бесполезных ритуалов и от запашка дряхлого мертвеца, мумифицированного в ванной с зацветшей водой. Н-да, сегодня я меньше продержался за просмотром, устроив им короткий день, в надежде на их скорейшее образумление. Мои глаза всё не могли отделаться от липких ног, поблескивавших на свету выделениями, которыми они делали грузные прыжки. К ушам, – как авто-фонограф, установленный у них дома (на случай, если когда-нибудь устанут квакать), – всё ещё приставали пиявки, приникающие волнами от их ритуального открывания входной двери. От неконтролируемого повторения этих деталей меня едва не выворачивало: лягушачьи ножки блестят влажностью на солнце, замедленно сгибаясь и разгибаясь.
У меня на уме так и маячит одна навязчивая мысль: может всему причиной входные двери и стены? Хотя, на вряд ли бы этот печёный отрок вошел бы в дом, не будь этой входной двери. Типичная подрастающая особь рутинезийца.
Только где же мои девочки? Эта мысль укрыла меня сквозящим прохладой, одеялом сна. Но, хочу вас заверить – то, что вижу во сне я, не имеет ничего общего с тем, что видите вы. Мои сны – это действительность и подлинность, которой я питаюсь и в которую, по мере надобности, выхожу. Мне снится то, что занимало мои мысли перед уходом в астрал реальности.
И вот, значит, снится мне:
«Свежесть ворвалась; хочется вскурить чайную розу, пропитанную ментолом. Мы сидим на заднем дворе у Марты, на корточках, а над нами звездное небо, из которого как будто доносятся крики пролетающих чаек. А мы сидим, мечтаем, вдыхаем полные легкие свежести, еще медленнее выдыхая, смакуя реакцию организма на одурманивание свободы духа. Этот, изначально, сладковатый вкус, смешанный с запахом фруктовых ноток, уводит в воспоминания о детстве…
Вокруг пустынная, непробудная ночь, но деревья и всё вокруг словно самоосвещает своими приютившимися светлячками свежую зелень недавно пробудившихся листочков почек. Вокруг ни травинки не шелохнется: эти зеленые гвардейцы своих полей и блюстители тишины всегда вооружены острием своей игольчатой пики, проникающей в упруго-эфирную, лавандово-масляную ночь. Кроны полуспящих-полубдящих деревьев, похожие на марабу, втянувшего голову в плечи, отсвечивают едва уловимым свечением цвета хаки, что своим плавным переходом подрезает ночь, нежащуюся сном на напитанных влагой подушках. Пахнет убаюканной, волшебно-изумрудной зеленью почек и ростков. Нам всё чудится, слышится, что где-то вдалеке блеют козы или мычат коровы. И мы словно дожидаемся какой-то вести; сидим в экзальтированном всеуслышании, считая сердцебиение, как индикатор всякого изменения.
Что же должно произойти и что будет дальше, мы не знаем, но присутствует внутренняя убежденность, что это что-то неминуемо. Кроме нас никого нет ни в домах, ни на улицах – только прерывистое блеяние животины, доносящейся с периферии окрестностей, и желтые изогнутые усики улиточных фонарей, освещающие пустынные дороги. Напряженной пружиной мы привстаем с корточек, подсаживаясь вплотную друг к другу, ощущая мягкую, обнимающую бризом, прохладу, безмолвно напоминающую, что мы действительно одни и рассчитывать нам не на кого.
– Марта, слышишь, сверчки и запахло тиной?
– Сверчки, это да-а, они такие лапопусики! – покачиваясь на корточках, с улыбкой на губах, умиляется Марта.
– Марта, я слышу бульканье! Оно нас словно окружает! – вскрикиваю я нервным шепотом, немного подскакивая, и вновь приседая.
– О, Боже!.. Кажется, я что-то слышу! Что это, что, Фелинка?!
– Кажется, что это как-то связано с нашей прогулкой!.. Помнишь, где поляна с козами, и мертвыми… Оно пришло! – заверяю я с дрожью в голосе, но твердой убежденностью, оборачиваясь к ней лицом, с глазами, прожженными ясностью, и напряженной кривой улыбкой.
– Только не надо, не пугай, ты же знаешь… Тьфу-тьфу! (Через плечо.) Господи, избавь! Ты это про кого? – ужасается она побелевшим лицом, тряся меня за плечи.
– Март, мы в тот день были… посвящены!
– Но…
Раздается неестественно зычный и жутко продолжительный звонок в калитку».
Я вскочил со своих перин; сглотнул; включил ночник, и, не поверите, у меня до того закружилась голова, что перед глазами завертелись мириады блёсточек. Не сон, не сон! Я знал, чувствовал какой-то подвох, скрытую опасность, которая медленно подбиралась к моим девочкам. От волнения, которое меня охватило, я весь был в дыму, наэлектризованном давлением.
Хочу отметить произошедшие во мне изменения: появилась некая легкость, радость и жизнелюбие. Я вновь подскочил к своему объекту наблюдений. Если же они в черепке Рутинезии, то, стало быть, запах варева рутинезийцев должен был за это время как-то улучшиться, что ли? Но приблизившись, мне стало ясно, что те дохляки не изменят своему запаху, даже под таким прекрасным предлогом… Они живут в вонизмах, облагораживают их, персонифицируют, собирают в баночки и ставят в морозильник, – для них это подобно благовониям миро. Они плодят детей именно в этих помоях, которые сами выделяют и которыми же питаются. Но стоит придерживаться толерантности: у них тоже, как и на других планетах, свои крысы в голове, только вот количествоэтих ондатр извне, превышает количество, способное вместится в их крысином мозгу. Не хватило им места в извилинах, вот они и материализовались оттуда во внешний мир, – к тому же «крысы» оприходовали весь мусор изнутри и там им делать нечего.
Я вновь перевожу взгляд на тот самый домик-сморчок, согбенный под слоем слизи. В нём всё продолжаются «входные ритуалы». Разница лишь в том, что теперь, отъевшись не остывающим «горячим» в свое удовольствие, все разбрелись по отведенным для себя каморкам, голося оттуда свернувшемуся калачиком, сорняку, который по привычке бурчит себе под нос имена всех существующих и не существующих родственников (последний этап проверки), чего те, конечно же, не слышат.
Что же способно раскачать облагороженную унылость? Ну а что, допустим, у них есть, кроме пространства выеденного мозга, покрывшегося непробиваемой скорлупой? Пыреи, мокрицы, ежовники, подмаренники, осоты – все они сорняки! Их нужно вырвать с корнем из той почвы, что их питает. Удобрение? Ну конечно, это ведь сорняки-мутанты, они давно приспособились к рациону и мутировали под него. Внутри них смола кровавого цвета, сыздавна затвердевшая, заключающая собой перебродившую кофейную гущу. Только шорох, хрипенье, кашлянье, брюзжание листьев у тысячи разных голов, то и дело вгрызающихся в землю. Чураясь неопределенно повисшего белого купола неба, они отрицают свое высшее предназначение, которое бы их оторвало с корнями от земли, возвысив в рост, чтобы им удобнее было начинать отдраивать и разукрашивать свой мшистый холст небосклона. А пока что «оторвало» только мебель и прочую дребедень, которая возвысилась побольше, чем они.
Один стержень вставных чернил, одной касты; одна многоголосая фуга, составленная из различных тонов общего тембра. Пока в самой церкви родственники «по такие-то колена», точнее их духи, обряженные в платья, поют в церковном хоре – А-капелла рабов подпевает им на задворках церкви. Таков обряд, сакраментальный лейтмотив, выводить на запятки вереницу повязанных. «Живые» рабы надеются очистится от врожденных оков, следуя изливаемым поучениям духов, которые, в свой черед, надеются очиститься благодаря раздаче эмпирии – внушением долга повиновения, – «а иначе будет так-то…». Иными словами, такая располагающая своей заботой, добродетель родственничков – не что иное как выгода, в целях искупления своих грехов; надменное высокомудрие. Они приспособились маскироваться под добродетели, однако сами сущие ханжи.
Сорняки, что вы можете дать, не имея прерогатив плодоносия? Круг вновь замыкается. Сорняки-дикари… и попадись им более слабый и беззащитный родственник, они высосут из него все соки, всё будущее, оставив без возможности к плодоношению. Но почему же «дикари» всё никак не окрыляться от этих соков? Отчего же испокон веков проходит ритуал жертвоприношений, но в их жизни не наблюдается никаких перемен? Ответ уже был дан: это замкнутый круг; circulus vitiosus. Тореадора с красным полотном уже давно нет, но метапрограмма (запоминание и автоматическое воспроизведение устаревшей установки) на красный цвет у всех современных быков сохраняется негативной от того общего предка, который и выработал эту программу. В нашем случае, чувство незащищенности и поиск одобрения действий, был выработан современным поколением – «сорняками-предками», которые уже, будучи компостом, напевали им свою волынку, насыщаясь соками «живых» – под маской заботы. Таковы традиции…
Изменится ли программа сорняков, если их пересадить из земли – в почву, удобренную церковным хором? Невольно, да, – как тот, кто всю жизнь ел мясо и по неясным побуждениям вдруг решил увлечься вегетарианством, хотя у самого на уме, при виде отваренной спаржи, или соевых котлет, это самое мясо в различных вариациях. Его пост – временноевоздержание, паллиатив; сдерживание и увеличение тайного желания отъестся вдоволь. Ну, а если сорную траву и подавно вырвать с корнями из земли? Тогда она просто зачахнет, однако анемохории пыльцы вновь и вновь будут разноситься анемофилией ветра, впитываясь в землю и давая ростки, чтобы в конечном счете вновь вписаться в замкнутый круг. Такую траву, в принципе, без гербицидов, не вывести. Так что же делать? Полагаю, нужно поменятьметемпрограмму сорняка о его и , а также излечить его от«комплекса виновника», о котором ему кричат из прошлого те, кто давно отжил своё, но чьи корни накрепко засели в почве, разрастаясь и овладевая всё большими площадями. Уберите старые сети корней, цепляющиеся за новые, дабы, наконец, прорости свободными от установок! Им нужно показать смысл, суть, надобность, полезность, изменяя тем самым их структуру ДНК Вереница цепей рабского подобострастия, наконец, освободиться от невольничества, от реликвии уважения и почитания церкви прошлых верований, возымея собственные взгляды и суждения. бесполезности ненужности .
Промочите засохшую кровь молоком, и смойте её. Устаревшая церковь предастся анафеме современных модернистских мировоззрений и самоуничтожится. Осталось определить, что же поспособствует срыву оков? Открыть им завесу в мое царство, бесспорно, вернейшее средство, но я не приверженец радикальных экстремистских мер, способных в одно и то же время породить обратный аффект. Я более склоняюсь к последовательности и конструктивности действий, чтобы они успевали усвоить данные им уроки и подготовиться к следующим…


