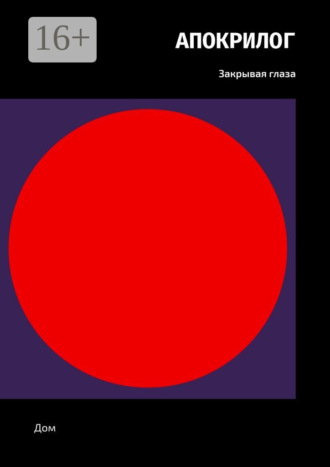
Полная версия
Апокрилог. Закрывая глаза
Есть у меня одно тайное желание: услышать мелодию, сопровождавшую меня «на выходе». На сегодняшний день какое бы то ни было гармоничное звучание разладилось. Преобразовавшись в иеремиаду гулов и завываний, оно приносит одни разрушения и всеобщие депрессии. Дела мои к Аиду… Да и матушка давным-давно почила. И тут меня посетила безумная идея: необъяснимым способом утраченную мелодию; пускай она будет генерироваться в моем клубе; пускай же она вновь заиграет, а не ее бесполезное эхо! вновь воссоздать
В последнее время расширение пространства замедлилось и процессы зарождения новых звезд редуцировались, но никто не может дать пояснений этому рецессирующему механизму. Сдается мне, не всё так смазано в нашей системе Космоса, – что-то дает сбой; что-то сопротивляется инкорпорации вступления в клуб единства «Ясемь-ля» .
Работа застопорилась – всё ополчилось, как злой пес, догрызающий стальную цепь, сдерживающую его. Тем временем идут холода. Исхудавший пес, брошенный на произвол, жаждет воздаяния тому, кто его, – до сих пор любящего и преданного, – приговорил. И на сей раз нюх его не подведет. Снежное покрывало мороза может сокрыть , но не сокроет дух , который вырисуется под действием мороза – точно узор на стекле. Найдись бесстрашный, что не побоится подойти к нему, – обласкать, отогреть и накормить, – вероятно, он бы и простил обидчику произвол. Но что-то не видать добрых сердец. Бесконечное время превратилось в песочные часы и теперь остается либо бесстрашного – и да наступит ! – либо пес вынюхает мучителя и оставит от него одни белые кости на снегу, поблескивающие корочкой льда. Или же силы оставят его и тогда он издаст свой последний жалобный визг; песочные крупинки упадут ко дну; часы закружатся волчком; время начнет обратный отсчет. следы предателя найти лето
Облака, сбившись в единую группу, словно стадо овец, побегут, откуда прибежали, в преддверии холодов; шубы и мясо овец пойдут в ход, – на обогрев и сытость тех, кто невидимой плетью бил их; кто побоялся поднять руку и признаться коронёру.
Всё пронесется к началу, сквозь все времена, эпохи и эры, и, в конце концов, чернота пространства сколлапсируется и пожрет сама себя, так, что даже свет не сможет оттуда вырваться. Вот уж, неожиданности ради, будет потеха, если зазвучит та мелодия, но не хора – а арии, – затихающе-дребезжащей то ли писком, то ли плачем. Иные решат, что это писк умирающего Универсума, но на самом деле это будет лишь очередным перерождением, омовением и расширением составлявшего его ранее масштаба со сверхсветовой компенсацией! Универсум перепрошьётся и рентгеном инфракрасных лучей, – мгновенно заполнив окружающее пространство, как вспышкой фотоаппарата, – выявит паразитов в своем безмерном теле и вытравит их на Квазар. Самоисцеление! Таким образом, над всеми гомункулофагами, – кто коронеру, – свершится страшнейшая экзекуция. Это будет ещё одна ступень навстречу началу, в сторону Абсолютной и Непревзойденной слаженности действующих органов. не признался
Бабушка Весель Ле́нная растит воспоминания о своем младенчестве; вскоре она умрет, но её подросшие «воспоминания» будут чтить память о ней. И так будет всегда! И я о ней помню, ведь как можно позабыть свои лучшие годы, воспитавшие твое настоящее? Я был ее любимчиком – один из ее воспоминаний. лучших…
Ну а пока что… Из-под их поджарого и горького шоколада битума (шоколад этот и впрямь подтаял под ярким излучением моей лампы Солнца, которую я навел, дабы немного распалить их страсти к жизни; он покрыт всей той дрянью, употребляемой гомункулами ранее) проросли, повысовывали свои головки прекрасные и пахучие желтые цветочки, – ваш обычный желтый . Зелень начала стремительно окрашивать дороги и землю, взвиваясь ввысь и стремительно распространяясь, да так, что вскоре все жители поднялись на один уровень с верхушками своих многоэтажек, которые уже вскоре доросли до верхушек мегаполисов. Тех гомункулов, которые сопротивлялись самостоятельному пожертвованию, – то ли от страха, то ли из-за отказа от перемен, – мох припрятывал в свою зелень в качестве удобрения. седум
Я совершенно заигрался. Меня теперь не столько заботят качества моего напитка, как идея, выдуманная, возможно, на почве безумства: помочь этим бедолагам, – и всё из-за неразборчивых голосков в голове, которые меня об этом умоляют! Возможно, я об этом еще пожалею, но покуда я и сам нахожусь в западне, то такой зов о помощи затрагивает мое «сердце проблемы», точно ложась бальзамом в сердцевину. Знаю одно: помогая кому-то (когда у самого «по горло»), перестаешь замечать, как твои проблемы, выстроенные в ряд в голове, становятся твоим . Когда ты помогаешь от сердца таким же нуждающимся как и ты, то получаешь обратную взаимопомощь. А если ты отдаешь внутреннему указу «помочь» всю свою , и , твои личные «воины» беспрекословно исполняют указ так, словно он был отдан именно им. На самом деле, оказывая помощь нуждающимся с полнейшей самоотдачей и сочувствием в сердце, ты проецируешь и активируешь эту помощь на . вкусовые выкарабкаться личное их личные войском решительность желание патетическую выразительность себя
Так вот я о чем… Как-то раз ко мне приходила одна душа, буду называть её девочкой… Саму историю я даже наскоро записал, назвав «Эфиверсум». Вижу, девочка смышленая, внемлет моим знакам и посылам… Решил ей помочь. Вел её на протяжении какого-то времени… но нет, – увильнула, отмахнулась от помощи; решила стать самостоятельной в свои-то 6-ть! Еще не окончив моей «школы», она решила, что знает все сама и справится без меня… А ведь я говорил: чтобы выпускники с дипломами «Освобождения» не стали руководимы «заученными правилами» своих же задатков, – закрывших собой «», что я скрыл за подаваемыми им знаками (понимание которых в 6-ть еще не окрепло, только начиная грубую шлифовку под жерновами своего «Я» и общества), – им прибегать к помощи заблуждений разума. всегда выход противопоказанно
Так, понять меня сможет только тот, кто во всем видит моих «ребусов», невидимо переплетающих их мир. Под «ребусами» я не подразумеваю гомункуловую промышленность и плоды фантазии для их безопасности: дома, машины, технологии, орудия, кутузки, или как их правильно называть… Я говорю о том, что варилось в составе единокомпонентов: о флоре и фауне. Гомункулы не задумываются о предназначении этих двух терминов, зато потирают натертые деньгами руки, пахнущие деревом; в их зубах зияют остатки мертвечины. Таким образом, я понимаю, они подсовывают мне свою самостоятельность, намекая, что минус шестилетние взрослые прожить без меня, этим же бросая мне вызов. Вызов принят, господа! Я предоставлю им такую возможность насладиться своим , однако, не вечным! За это я обрежу их заячьи жизни, съем их потроха и па́дающей зубочистной дорожкой начну их выковыривать. скрытый смысл девственном могут всесилием
Да, действительно, есть такие, которые умеют читать между строк, даже та же Книга Бытия 1:26—2:3; 2:4—3:24, – подтекст заданного мной ребуса которой изложен верно. Аллегорическое яблоко является мерителем вашей искушенности – стремления удовлетворять потребности и желания; получать от чего-то удовольствие. Именно поэтому вы сегодня не живете мирно и поэтому же деградируете ростом интеллекта, загрязнениями среды и увеличениями потребности в безопасности. Это называется переходный период популяции: стремление убегать от детства, не зная куда, с закрытыми глазами и ушами, желая обрести независимую самостоятельность. Тут-то и зарождается паранойяльная мания всё скрывать от взрослых. К тому же повсюду эти яблоки искушения: красивые снаружи – гнилые внутри. Они их будут пожирать машинами, теплицами, заедать мне на зло, с закрытыми от напускного удовольствия, глазами, с громким чавканьем и пуканьем выхлопных газов новых машин, где из открытых окон выпячены локти с поднятыми вверх кистями, в которых дымятся не затухающие сигареты. И этот процесс формирования личности не прекращаем. Паранойяльная мания и уже определившаяся жажда самостоятельности переходит в независимое высокомерие, нарциссизм и агрессию. Иными словами, как можно судить, жажда удобств и безопасности, наоборот, приводит к конфликтам и небезопасности, и всё потому, что нет тормозов у той самостоятельной машины, которую они завели. Потребности всё расширяются, как мох по земле; как желудок, изначально довольствовавшийся солнцем, водой и хлебом, а теперь не видящий смысла в хлебе без ветчины, облитой майонезом и кетчупом, где солнце и подавно враг для глаз и тела, – от него нужно защищаться очками и одеждой, а вода… вода «не вставляет»! Каждая отдельная почка эгоизма поглотила бы своей самовлюбленностью и самодостаточностью целый мир. Они тянут сок из корней, и, позвольте – это они ещё не начинали ! Но что же вынуждает их взрослеть? Что происходит в их рассольных головах? Почему они изо дня в день, как заведенные, ходят на работу, которая даже не радует? – если их вообще способно что-то радовать кроме никотина и кофеина – обычной привычки. А все по той немудреной причине, что, либо их духовный мир истощен смерти (корни которого использовались не по назначению), либо он простомертв. Без плана – материальной пищи всегда будет мало. взрослых цвести до духовного
И кто же, скажите, закрывает им пути ко мне? Избыток интеллектуальности и зачитанности знаниями! Нет, я не приверженец обскурантизма, но избыток знаний, в которых утопает неокрепший юнец, вымывает его духовность и впоследствии его повсюду окружает не мир, который хочется познавать, наслаждаясь каждым мгновением соприкосновения с ним, – а набор терминов, значений и определений, которые всё делают обычным и скучным, и порой даже закладывают в него отвращение. Но еще раньше, что прискорбнее всего, у них закрываются уши и глаза, зато рот с тысячью зубов, нос с завидным обонянием и руки, ищущие удовлетворения нужды искушаться, дисциплинируют систему расширения своих нужд – работой. Другое дело, когда приходит время и он самостоятельно решает нечто познать и изучить, – а не по чьей-то прихоти. удивительный
И вы только представьте себе мое удивление, когда среди всех этих единообразных сорняков, я увидел двух… Я тотчас встрепенулся и прозрел с затаением дыхания: словно перламутровые жемчужинки в ракушке, вот-вот сольющиеся воедино, схватившись за руки и безмятежно подпрыгивая, они бежали по траве, усыпанной золотистыми цветочками хризогонума, насвистывая им известную шутливую песенку. Я был невозможно взбудоражен и потрясен! Их не заинтересовала даже детская пустая площадка во дворах, овеянная весенними дождями – нет! – они пронеслись мимо, не приметив её. Создалось впечатление, словно они парят на ветряных крыльях. Невинные и восторженные таинством, в белых льняных и свободных платьицах, они даже не догадывались, что смотрят прямо на меня! Я как раз притаился поодаль, направив на них луч света, чтобы, отчасти, скрыть себя. Дабы убедиться в их чистосердечии и чувствительности к моим намекам, я обошел черепок планеты с другой стороны, расположившись позади них и слегка подул в их спины: они еще веселее и резвее запрыгали вперед, весело засмеявшись и застеснявшись теплому дуновению, приподнявшему их платьица. Я долго, очень долго их искал! – тех, кто воспринял бы мое дуновение не обычным ветра, – по-научному представляющим собой движение воздушных масс между областями с разным давлением, – нет! – а как и высших сфер. Сквозь этих девочек пел морской бриз; их хрупкая фарфоровая кожа принимала восхищения моих бережных лучей глаз. Их счастливые личики светились улыбками; прозрачными улыбками глаз. О, Всевышний! Как давно, очень давно меня ничто так не волновало! Они вели очень милую беседу, пока я обдавал их дуновением позади. Тут они вновь устремились вприпрыжку, перебегая балку через старый деревянный мостик. После, я обдал дыханием одну из них – с правой стороны, и тогда они, схватившись за ручки, свернули влево. девочек порывом направление зов
Если же в моем клубе всегда темно и безрадостно, потому как свет поглощается кромешной тьмой, у них – волшебство красок рассвета! Я даже взял себе за ежедневную обязанность этот свет; оставлять лампу включенной даже в дневное время. Раньше она оставалась включенной, просто теперь я сбрил волосы туч, за которые едва ли мог пробиться свет. Хочу сказать, после того эпического проливня из чайника и обильных лампочных лучей, вместе с цветением почвы, появился и приятный цветочный аромат, на который, при приближении к черепку, у меня объявилась аллергическая реакция. И хотя я ни на мгновение не хотел отводить своих глаз от корицы и ванильного сахара, мои глаза до того заслезились, что я не мог различить своих прелестниц; нос защекотало несносным юлением порочного порошка. Пыль и газ из атмосферы моих легких выплеснулись наружу одним бравым чихом, и, слава Всевышнему, без бриза! Пальнул я, конечно же, прямо на объект наблюдений; девочки вскрикнули – но без страха, – плотнее прижавшись друг к другу; над их тропосферой нависла туманность, разделившая небо на пробор ярко розового и сине-аспидного цвета. Незамедлительно туманность заискрилась мельчайшими блестками молодых звезд. Из-за непроницаемости и рефракции лучей, посылаемых лампой, я, мало того, что видел девочек, словно в увеличительных очках, так ещё и на их веселые и радостные головы упал будничный сумрак, смешавший все краски в грязный цвет. Поле, на которое я их привел, было усыпано желтыми энотерами. Иссиня-зеленая трава так разрослась в углублении лога, в который они спускались, что приподнимала их платьица; щекотала и гладила своими перьевыми кончиками их плечи, шею и волосы, поголубевшие в сумраке. Я попытался смахнуть аллергический осадок с неба, но на меня вдругорядь, точно окатом веера, пыхнул щекотливый порошок, и я чихнул прямо им вслед. Теперь адвекция бриза от моего насморка, которая на границе в их стратосферу значительно охладела, погнала их в спины . В этот момент они взглянули вверх и тогда до меня дошло, что уже поредевшая туманность выдает мой силуэт. Я тотчас отпрянул, присев за черепок, подглядывая за ними одним глазом. С другого края, над убегающим вдаль «поездом» темно-паркого полесья, виднелось тусклое отражение лунного ночника, окруженного золотисто-заглушенным венцом. Я почти ничего не видел, хотя слышимость несколько улучшилась. поддерживать тоже снегом
– Марта! – заговорил четко-бархатный голос, который до меня всё так же доходил как писк. – Я такого еще не видела! Мне кажется, раньше трава не была такой высокой, да?! Боже, погляди, какая над полесьем красно-оранжевая луна! А ты заметила, как похолодало? – с воодушевленной вспыльчивостью красноречила она сквозь возрастающую дробь зубов.
– Да-а..! И вообще никогошеньки вокруг!.. Теперь мне страшно… – послышался ответный писк, притихая с нарастающей возбужденностью тревоги.
– А помнишь, там, на лугу, паслись? Так их сейчас там нет, но все равно, ? Такое ощущение, будто кто-то где-то тихо млеет вдалеке… жутковато! козы слышишь
Затем я услышал мягкий шелест аккуратных шажков и крик испуга.
– Ой, мамочки! Фелина, я дальше не пойду! Тут… – раздается ускоренное шуршание, – коза , белая… мертвая
Признаться, я был встревожен не меньше и немного выглянул двумя глазами, чтобы увидеть причину беспокойства, которое встревожило и мое благорасположение. Я слегка привстал из-за черепка и в это же время мой нос учуял неладное; что было мочи, я вспылил на бедняжек промозглым шквалом. Они вмиг испуганно обернулись в мою сторону; я присел вниз порывистой молнией, но один глаз все-таки оставил сиять, пока второй был скрыт терриконом. Моя сторона, словно разожженный костер в камине, воспылала алым, тогда как глаз сделался куда менее приветливым от смешения с розовой туманностью, налившись устрашающе-кровавым цветом.
– Ух ты-ы, Фелина, у террикона красное солнце! – вскрикнула одна другой. – Скажи, у тебя нет чувства, будто за нами следят… оттуда? – произнесла она последнее слово с содроганием выражения, нерешительно подняв пальчик вверх.
Пришлось вновь немного отпрянуть, чтобы не вызывать никакого «чувства» и «ощущения».
– У меня – нет. Только есть ощущение… что за нами следит вон то солнце! – Она указала на мой глаз. – Ты посмотри, оно исчезло, хотя я только что видела его!
Наконец туманность рассеялась; проступил солнечный день. Солнечную лампу, которую девочки приняли за лунный ночник, я установил отражающей головкой прямо в зените. Тогда же я с облегчением вздохнул, не предвидев той крепкой свежести своего дыхания, которая на них повторно низвергнулась.
– Ого, вот это ураган! Да что это здесь происходит?! Трава будто под неким влиянием приминается ветром от нас. И откуда, скажи, здесь запах морского бриза?! Это же просто волшебно! – проговорила Фелина, сменив предупредительную интонацию на восторженную, выразив мне этим свой скрытый пиетет.
Я на радостях потер ладони материи, более не в силах сдерживать эмоций счастья. Эти детки – ванильный сахар и пудра корицы – то, что нужно! – решил я вконец.
Раздался умиротворенный шелест мерцающего и серебристого занавеса-дождика, отходящего от струн моего сердца; в ушах запели радостные трели, которые отобразились на планете пением птиц. Запахло теплыми нотками цветущей акации. Возможно, я сентиментальный романтик, но девочки запрыгали вдоль лога, сквозь веющие на них волны трав, заметив при этом: «Прямо настоящий гала-концерт! Такого мы вовек не забудем!» – лились похвалы, словно в мои уши. Фелина, произнеся дифирамбы, отбежала от Марты на несколько шагов, чтобы закружиться с обращенным ко мне лицом и глазами, зажмуренными солнцем. Покуда одна пребывала в забытьи, вторая успела пройти вперед, увидев на свалке мусора выброшенную мертвую кошку со всклоченной шерстью.
– Фелина, тут мертвая кошка и она… шевельнулась! – взвизгнула побледневшая Марта.
Каюсь, это суетное движение в кошке я воссоздал нечаянно!.. Я предпринял неразумную попытку хотя бы на мгновение её оживить, чтобы она куда-нибудь самостоятельно зарылась и девочки не заметили бы её.
Неожиданно Марта подскочила к Фелине, заслоняясь за ее плечи: полуразложившаяся кошка дернулась вновь, точно от электрического разряда. Это был тот остаток энергии, который пришелся от первого разряда. Но, отнюдь, в мои задачи не входило запугивать их мертвечиной, – смертью, – а лишь воодушевить идеей готовности познать.
– Марта, я это видела!.. тоже
Фелина хватает Марту за руку и подталкивает возбужденными рывками вбок, стремясь проскользнуть вперед неё. Так они стопорились через каждые несколько метров, огибая лог. На полюсе меридиана лога, указующего на даль полесья, они обнаружили полуразложившегося чёрного пса с всклокоченной шерстью, – словно некое подтверждение в устрашающей и беспощадной жестокости смерти. Слава Всевышнему, я не додумался оживить его прежде, чем заметил вставленную меж его выпирающих ребер – палку, иначе вышло бы смерти не правдоподобно. Я несколько разволновался: личики прелестниц, при свете дня, отчетливо посерели; их ножки подкосились от перенятого у гомункулов, страха перед неминуемым. Казалось, им предстало трупное многообразие покореженных, вывихнутых и переломанных рук с рваными, рубленными и резанными ранами, тянущееся позади них, сквозь шерсть хищной травы, жаждущей крови для своей почвы. Они недоумевали, зачем их сюда принесло, а я рвал на себе волосы, недоумевая, зачемих сюда направил, – видимо, в стремлении с ними распрощаться и больше никогда не увидеть… до
На этот раз, когда они попытались бежать в своем направлении, я абсорбировал собой всю окружающую силу, и, завидев меж двух ив, склонивших кудри – полуживую птицу, обдал её током, не взяв в расчет соотношение с её размерами. В момент, когда девочки к ней приблизились, – их шаги были затруднены какой-то вязью под ногами, – «полумертвая», прямо перед их носом, высокоскоростной молнией взмыла ввысь точно ракета, теряя на ходу свои черные перья с удивительным звуком стрекотания огня, которым она загорелась. Перья осыпались на землю каплями лавы, с ошметками пепла.
Между тем, девочки успели проскочить промеж ив и выбраться из лога на поляну, – где раньше паслись козы. Их растрепанные золотистые волосы налипали на лицо, а платьица приставали к вспотевшим разгоряченным тельцам.
И пока Зоил-Нахалыч толкал меня в плечо, чтобы заглянуть в черепок на продвижение процесса, я понял, что вымышленная глава моей вымышленной книги определенно должна быть закручена во вселенскоммасштабе, – в соотношении с моими намерениями на неё. Пока я размышлял над тем, как могу достать девочек из черепка, мои тугодумья свели на их планете брови туч. Трава насыщенно-бирюзового цвета встревожено распустила веснушки энотер – лунных цветков – в ожидании моего вердикта. Гомункулы, появлявшиеся из ниоткуда, засуетились по соседским домам, вроде как за солью или спичками; мельницы замахали ошалевшими веерами ресниц, словно бы недоумевая разразившейся суматохе – с верующей готовностью. Мертвая кошка мяукнула, дав о себе знать, чтобы её не забыли включить в списки «приглашенных» мной, – видит Всевышний – она совершенно готова. Косматый пес с козой туда же: ощутив мою руку, проникнувшую сквозь магнитное поле смерти, они закашляли и заблеяли каверной своих легких. Ну-ну, дружки, вы ещё на этом черепке послужите, – понесете в народ прокламации о Всемилостивом, воскресившем «смерть» к «жизни». Но от этих гомункулов нечего ожидать восторженных прозрений: их пугает всё, что отвергается их несуществующей душой, но ежедневно рисуется грешным упованием ума.
Озёра слез и ржавой крови взрослых детей, будут стекать по булыжным дорогам. Вскоре все отбросы, – вся мертвичина, – сольются в единую братскую канаву, – разве это жизнь, на 99,9% состоящая из просроченного кофе?!
Нет! Этих девочек я лично аннулирую из списка этих недоумков; пусть лучше они лишатся своих прелестных физических оболочек, только бы не искушались всей той иллюзией, прогнившей от сердцевины.
Марту здесь запомнят Береговой, а Фелину – Галактистой, – просто потому, что мне так заблагорассудилось.
Моя невидимая рука коснулась кончиком пальца их головок. Коты, козы и псы, намагнитившись, подскочили к девочкам с чудной переваливающейся походкой, издавая какофонию скрежещущего, млеющего агонией, коверканного расстановкой и хриплоиздыхаемого остатком сгнивших легких, сухого, проседающего связки, противного чавканья. Ну, думаю, куда их девать? Пойдут на войды пространств, не заделанных штукатуркой материи.
Девочки рухнули обмякшими коленями на скошенную траву, и я прикрыл их, и всех «приглашённых», своей рукой, пробубнив про себя молебен за упокой. Когда я вынул руку из черепка, их бездыханные тельца так и остались лежать, – только внешние! Их внутренне и нематериальное я прихватил с собой. Пускай встряхнутся гомункуловы огрубевшие души таинством истинного воскрешения, – там уже будет видно, куда или на что пускать остальных.
– Неужели вы разговариваете с напитками? – недоверчиво отозвался дорогопочтеннейший зоил.
– Ну, дорогой мой, я и с вами порою говорю… Теперь у меня дела поважнее. Мне предстоит докопаться до причины испорченного вкуса, – отозвался я, покуда по моим жилам растекалась блаженная корица с ванильным сахаром, которая тут же – приятным и легким привкусом отдалась моим вкусовым рецепторам.
– Тогда вам предстоит покопаться в себе, ведь, прежде, мы есть то, что создаем в себе, – сказал зоил, направившись к выходу с галантным разворотом и протяжной певучестью подлетающих вверх шагов, словно намагничиваемых полом, мягко блеснув черной мантией, дыхнувшей на меня загадочным троеточием.
Колокольчик над дверью точно в последний раз тряхнул головкой, уставившись на меня пронзительным одиночеством. Пространство объяли ржавые тени деревьев, заколыхавшихся под притушенной лампадкой, подвешенной над барной стойкой.
Планета Рутинези́я
Черепками источается удивительный заряд энергии, коей я восполняюсь, подсматривая за жителями. Потоки сладких грез одолевают мои младенческие пятки. Во избежание полного всасывания в кровь – душ моих девочек, я незамедлительно отправил их сюда – на планету Рутинези́ю, чтобы они навели тут порядок. Уж они освежат и разрядят эту консервную устаканенность, обёрнутую в бурдюк, откуда пенной неохотливостью и безразличием исходят миазмические пары торфа.
И вот, верите или нет, но только я их туда отправил, как уже спустя секунду спросил себя: «Зачем я их туда сослал?» И сам же себе ответил: «Ну а как иначе исправить ошибку своего творения, когда оно уже давным-давно материализовалось и живет своей жизнью? Одной переменой мыслей этого теперь не поправить, увы».


