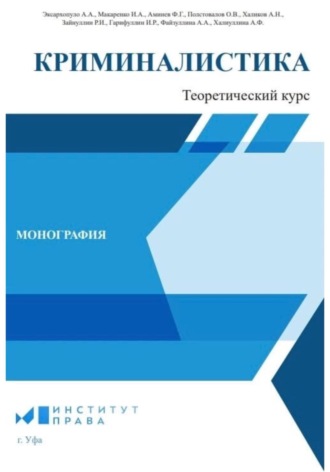 полная версия
полная версияКриминалистика: теоретический курс
Практическое исследование материалов уголовных дел по своему целевому предназначению обусловлено, прежде всего, профессиональными функциями участников уголовного процесса. Исследуя материалы уголовного дела, они дают оценку использованным познавательным средствам, а также результатам выполненной ими самими работы. Получая и анализируя информацию о состоянии расследования или судебного рассмотрения уголовного дела, участники процесса стремятся сделать наиболее приемлемый с их точки зрения выбор способов действия или линии своего дальнейшего поведения. Будучи необходимой составляющей выполняемых процессуальных функций, исследование материалов уголовного дела участниками судопроизводства способно оказать, таким образом, влияние на весь ход уголовного процесса, а главное избежать ошибок.
«Критическое осмысливание следователем своих ошибок, – справедливо заметил Ю. В.Кореневский, – допущенных при исследовании и оценке доказательств, является необходимым условием приобретения им профессионального опыта, без которого невозможно постоянное повышение качества расследования». И далее: «… опытность, умение зависят не только от стажа работы, но и от того, насколько внимательно и непредубежденно подходит следователь к результатам своей деятельности».[766]
Принятие и реализация ими лишь наиболее оптимальных, то есть наиболее обоснованных с позиций закона и требований науки технических, тактических, организационных и иных решений приближает каждого из участников судопроизводства к намеченной цели. Информационное обеспечение принимаемых в рамках нормативно управляемой деятельности участников процесса решений и есть та полезная и важная роль, которую призваны выполнять материалы уголовного дела. Имея зачастую диаметрально противоположные интересы в расследовании и судебном разбирательстве конкретных дел, участники уголовного процесса оказываются профессионально по-разному ориентированными и в исследовании материалов уголовного дела. Государственный обвинитель изучает материалы уголовного дела главным образом с целью получить подтверждение обоснованности предъявленного подсудимому обвинения, защитник стремится найти в них аргументы для оправдания или смягчения наказания своему подзащитному и т. д.
Функционально различной ориентацией объясняется и большое разнообразие решаемых в ходе такого исследования задач. Насколько различной в смысле целевых установок может оказаться работа отдельных их представителей, свидетельствуют данные опроса профессиональных защитников. Так, часть адвокатов, пусть и немногочисленная (5,7 %), видели своим целевым предназначением защиту подзащитного любой ценой, 31,3 % из их числа приоритетной в деятельности адвокатов назвали цель оспорить собранные следствием доказательства, а 71,2 % считали главным в своей работе выявление ошибок следствия.[767]
Контроль над качеством работы, выполняемой процессуальным противником, при наличии доступной для изучения информации о ходе и результатах деятельности каждого из участников процесса становится, таким образом, обязательным условием реализации ими своих целевых установок в уголовном судопроизводстве. Анализ и изучение материалов уголовных дел как функциональная обязанность участников судопроизводства и есть один из способов такого контроля.
Учитывая, что субъектом исследования материалов уголовного дела может стать любое лицо, для которого законом предусмотрено право (обязанность) знакомиться с этими материалами как с источником информации, анализировать имеющиеся в уголовном деле материалы и давать им оценку приходится:
следователю, руководителю следственного органа, дознавателю при принятии решения о возбуждении уголовного дела по материалам проверки; прокурору при определении подследственности или для вынесения мотивированного постановления, отменяющего вынесенные полномочными органами постановления о возбуждении дела (ст. ст. 144–146 УПК РФ);
следователю (дознавателю) при принятии решений о проведении требуемых для достижения поставленных целей следственных действий, а также при подготовке к ним (организация, определение тактики и пр.);
следователю, дознавателю, прокурору и суду при проверке доказательств путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, подтверждающими или опровергающими проверяемое доказательство (ст.87 УПК);
следователю при получении материалов уголовного дела от прокурора или руководителя следственного подразделения для дальнейшего или дополнительного расследования (ч. 2 п. 8 ст. 37 УПК РФ; ч. 1 п. 1 ст. 39 УПК РФ; ч. 1, п. 3 ст. 221 УПК РФ; ч. 1 п. 4 ст. 226 УПК РФ);
следователю для оценки по материалам уголовного дела следственной ситуации, на которой он основывает свои процессуальные, организационно-тактические и методические решения, касающиеся определения направлений дальнейшего расследования дела;
дознавателю – при составлении обвинительного акта ст. 225 УПК РФ, следователю при составлении обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ), прокурору – при их утверждении (ст. ст. 221, 226 УПК РФ) – для оценки качества расследования и обоснованности выдвинутого обвинения;
защитнику:
по окончании проведения следственных действий, в которых он принимал участие, для оценки качества их проведения;
по окончании предварительного следствия для оценки его качества с точки зрения законности, научной обоснованности использованных следователем познавательных средств, достоверности полученных результатов, доказанности обвинения и т. д.;
при подготовке к судебному разбирательству для выработки позиции защиты;
по окончании судебного разбирательства, когда имеются основания для обжалования решения суда;
специалисту (ч. 1 ст. 58 УПК) для оказания содействия участникам уголовного процесса в применении технических средств при исследовании материалов уголовного дела, а также при необходимости высказать свои суждения относительно возникающих у следователя, адвоката, суда вопросов, требующих специальных, в том числе криминалистических, знаний;
эксперту (п. 3 ст. 57 УПК РФ) – при подготовке к проведению экспертизы по заданию органов следствия и суда;
государственному обвинителю при подготовке к участию в судебном разбирательстве (для оценки качества расследования и обоснованности обвинения) – ст. 246 УПК. При подготовке прокурором надзорного представления – ст. 412.3 УПК и т. д.;
судье для принятия решения по поступившему уголовному делу (ст. 227), при назначении судебного заседания (ст. 231), при рассмотрении ходатайств об исключении доказательств (ст. 235 УПК);
судье при подготовке к рассмотрению уголовного дела в апелляционной или кассационной инстанции (ст. 389.11, ст. 401.8 УПК РФ) и при вынесении решения;
суду надзорной инстанции при изучении надзорных жалоб и представлений (ч. 1 ст. 412.5).
Это, разумеется, далеко не полный перечень тех случаев, когда у участников уголовного судопроизводства может возникнуть потребность обратиться к материалам уголовного дела для решения стоящих перед ними задач. Такому исследованию и оценке могут быть подвергнуты как отдельные документы, например, отдельный протокол следственного действия, так и их взаимосвязанный комплекс, в котором нашли отражение ряд процессуальных, тактических, организационных и других мероприятий. Их взаимосвязь может быть обусловлена требованиями закона или единством тактического замысла, реализуемого посредством проведения комплекса следственных и иных действий. Известно, например, что предъявлению для опознания обязательно предшествует допрос опознающего. Поэтому, чтобы убедиться в достоверности результатов опознания, оценить его качество с точки зрения соответствия криминалистическим и процессуальным правилам, необходимо анализировать не только протокол предъявления для опознания, но и протокол предварительного допроса опознающего. Но и этих двух протоколов может оказаться недостаточно для оценки данного следственного действия. В исследуемый документальный комплекс иногда требуется включить дополнительные материалы, например, отражающие условия восприятия опознающим опознаваемого объекта, документы, в которых закреплены действия следователя по установлению обстоятельств, послуживших поводом для принятия решения о проведении опознания, материалы, связанные с подготовкой и проведением данного следственного действия и т. д. Так, по делу о разбойном нападении, расследованному в 1996 году Выборгским РУВД Санкт-Петербурга, для дачи консультативного заключения о соответствии опознания, проведенного по фотографиям, требованиям закона и правилам, разработанным криминалистикой, пришлось проанализировать более двух десятков документов из уголовного дела. Все они и составили документальный комплекс, необходимый для ответа на поставленный вопрос.[768]
Не менее сложно оценить качество дознания, предварительного следствия, или судебного разбирательства дела, основываясь исключительно на информации, содержащейся в итоговом документе, принимаемом по результатам работы в целом или на ее отдельных этапах. Например,
– об обоснованности постановления о возбуждении уголовного дела без самих материалов предварительной проверки,
– об обоснованности предъявленного обвинения без документов, отражающих ход и результаты проведения первоначальных следственных и иных действий,
– обвинительного заключения – без всего комплекса материалов, собранных на предварительном следствии,
– приговора – без анализа всех тех материалов уголовного дела, которые имеют отношение к обстоятельствам познанного события преступления, средствам и способам их установления.
Поэтому оценка качества выполненной работы по результатам анализа сведений, содержащихся исключительно в итоговом документе, не может быть дана в категоричной форме. Ибо изложение событий в таком документе часто оказывается результатом субъективного восприятия дознавателем, следователем, судом имеющихся в уголовном деле сведений. Тем не менее, отдельные аспекты выполненной работы, особенно явные нарушения закона или несоблюдение криминалистических правил работы с техническими средствами, получившие адекватное отражение в этом итоговом документе следствия или суда, вполне доступны для такой оценки.[769]
Однако, нужно, как минимум иметь доступ к материалам уголовного дела и, в частности, к тексту итогового документа. В этом смысле в весьма затруднительном положении ещё совсем недавно оказывались те, кто, обладая правом на обжалование процессуальных решений, вынужден был руководствоваться не непосредственным, а исключительно эмоциональным их восприятием. Так в недавнем прошлом обстояло дело с обжалованием потерпевшим, например, постановления о прекращении уголовного дела, с которым следователь его не знакомил, ограничиваясь лишь уведомлением о состоявшемся решении (ст. 209 УПК РСФСР). Составить мотивированную и понятную для адресата жалобу на такое процессуальное решение, не имея доступа к материалам уголовного дела, нельзя. И не только на решение о прекращении уголовного дела, но и на любое иное процессуальное решение, в том числе на вступивший в силу приговор суда.
Между тем, даже получив такой доступ, отдельные участники судопроизводства, неосведомленные в юридических, а тем более криминалистических вопросах, нередко сталкиваются с серьёзными трудностями, обусловленными тем, что их немотивированные заявления, жалобы или ходатайства «могут быть непонятны, неправильно оценены и оставлены без удовлетворения, даже когда судебное решение действительно неправильно, незаконно».[770]
Отсюда крайне важно, чтобы «лицо, ходатайствующее о проверке законности и обоснованности приговора и его опротестования, могло дать юридически обоснованную оценку материалам дела, подтвердить и мотивировать свои выводы».[771]
Для этого, надо полагать, и существует в уголовном судопроизводстве не только институт профессиональной защиты от предъявленного обвинения или от необоснованного отказа в защите прав потерпевших, но и институт специальных познаний, к которому следует чаще обращаться сторонам. В том числе за получением письменных разъяснений по вопросам качества проведенного расследования и судебного разбирательства уголовных дел.
В этом смысле субъекты процессуального доказывания, в частности следователь, дознаватель, суд, прокурор оказываются в более выгодном положении. Но и они не смогут принять по итогам расследования и рассмотрения уголовного дела обоснованное и справедливое решение, если не используют в полной мере предоставленную им законом возможность изучить весь комплекс материалов уголовного дела с максимальной полнотой и тщательностью. Только по результатам такого изучения им удастся убедиться самим и убедить других участников уголовного процесса в том, что их решения, принятые по делу, отличались обоснованностью, а обстоятельства, на которых эти решения базировались, установлены с надлежащей полнотой, объективно и всесторонне.
Таким образом, об исследовании материалов уголовного дела можно говорить не только как об источнике информации, необходимой для подготовки и принятия обоснованных решений, но и как о способе оценки качества раскрытия, расследования преступлений и судебного рассмотрения дела. Оценочные характеристики этой деятельности весьма разнообразны. Отсюда и разнообразие задач, решаемых посредством исследования материалов уголовного дела. Их примерный круг может быть представлен следующим перечнем:
Оценка всего комплекса мер, предпринятых для установления обстоятельств проверяемого события, с точки зрения их полноты, научной обоснованности, соответствия рекомендациям криминалистики, прежде всего криминалистической тактики и частной методики расследования отдельных видов преступлений.
Так, из материалов уголовного дела по обвинению гр. Б. в изнасиловании несовершеннолетней О., следовало, что ни осмотр места происшествия, ни освидетельствование подозреваемого, задержанного на следующий день после совершении преступления, ни изъятие его одежды, в которую он был одет в день изнасилования, следователем не проводились. Даже джинсы потерпевшей, на которых, как показывали свидетели, были заметны в тот день пятна крови, следователь не изъял для приобщения к делу. И это несмотря на то, что проведение данного комплекса следственных действий рекомендовано практически всеми руководствами по расследованию изнасилований. И именно потому, что от их результативности зависела объективность, полнота и всесторонность познания расследуемого события. Все эти упущения, обнаруженные в ходе исследования материалов данного уголовного дела, и дали основание для вывода о необходимости проведения дополнительного расследования.[772]
Оценка качества выполненной следователем работы по уголовному делу и определение перспектив его дальнейшего расследования.
С необходимостью решения такого рода задач приходится сталкиваться, как правило, при анализе материалов уголовных дел, расследование которых невозможно было провести квалифицированно, не обладая достаточными знаниями в отраслях права, регулирующих общественные отношения, выходящие за рамки уголовной юстиции. В частности, гражданского и коммерческого права.
Одно из таких дел оказалось интересно тем, что с просьбой дать свое заключение о перспективах расследования, обратился сам следователь, которому было поручено его проведение. Возбужденное по заявлению генерального директора АОЗТ «…» гр-на М., это дело представляло известную сложность именно с точки зрения установления способа обманного завладения недвижимым имуществом (зданием) отдельными акционерами данного Общества. Как выяснилось из анализа материалов данного уголовного дела, собранных на начальном этапе расследования, следователь, увлеченный одной единственной версией о способе совершения преступления, а именно, обманным использованием дубликата печати, не придал значения и не предпринял мер для проверки иных объяснений совершенного с целью хищения здания обмана. В частности, использованию «мнимым» покупателем, за которым стояли акционеры-злоумышленники, в качестве платежных средств по сделке с АОЗТ векселей, не обеспеченных активами плательщика, иначе говоря, недействительных. Для проверки этой версии и был рекомендован комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, связанных с оплатой приобретенного здания.[773]
Выявление процессуальных и криминалистических ошибок, допущенных следователем при производстве отдельных следственных действий.
Примером решения такого рода задачи могут служить результаты анализа материалов уголовного дела, при расследовании которого следователь организовал проведение опознания по фотоснимкам. Перед специалистом была поставлена задача дать заключение о соответствии данного следственного действия требованиям УПК и криминалистики. Как вытекало из представленных документов, следователь провел опознание одновременно трех обвиняемых в совершении преступления гр-н К., Ш., и М., предъявляя их двум потерпевшим. Одна из ошибок следствия состояла в том, что в фототаблицу, которая предъявлялась опознающим, следователь поместил изображения всех трех опознаваемых лиц вместе с фотоизображениями еще шести человек. Таким образом, создавалась иллюзия выполнения требований закона о предъявлении опознаваемого объекта вместе с двумя аналогичными общим числом не менее трёх. В действительности, в одном следственном действии оказались объединены одновременно три предъявления для опознания, которые должны были проводиться отдельно. Такое объединение трёх различных процессуальных действий в одном не только противоречило процессуальным правилам проведения опознания лиц по фотоснимкам, но и рекомендациям криминалистики. Кроме того, предъявление для опознания одновременно девяти фотоизображений людей существенно затрудняло для опознающего выбор, ибо из психологии известно, что максимальная концентрация внимания на предъявляемых объектах достигается при условии, если их число не превышает семи. В данном случае проведенное опознание противоречило известному в судебной психологии правилу «миллеровской семерки». Допущенные нарушения известных правил проведения данного следственного действия дали основание для вывода о том, что результаты опознания не могут иметь доказательственного значения, поскольку их достоверность и процессуальная состоятельность проведения самого опознания вызывали обоснованные сомнения.[774]
Оценка результатов работы со следами на месте проведения следственного действия, в том числе выполненной специалистами или экспертами, привлеченными для оказания содействия в решении вопросов, требующих специальных познаний. Исследованию с указанной целью могут быть подвергнуты протоколы процессуальных действий, в которых сведущие лица принимали участие, либо данные ими заключения со всеми иллюстрирующими его материалами и теми документами, в которых отражены действия следователя (суда) по обнаружению и фиксации подвергнутых исследованию объектов.
Так, для решения вопроса о качестве осмотра места происшествия и последствиях использования обнаруженных в ходе его проведения следов обуви при производстве трассологической экспертизы, анализировался соответствующий протокол и два экспертных заключения.[775]
Как выяснилось, протокол осмотра места происшествия не содержал, ни точного описания мест обнаружения следов, ни подробного описания их самих, ни сведений о средствах и методах, с помощью которых эти следы были обнаружены и закреплены (зафиксированы), как того требовал закон и ведомственные нормативные акты.
А те сведения об обнаруженных следах, которые всё же были представлены в протоколе, отличались такой противоречивостью, что делали невозможным их использование в доказывании. Беспомощными оказались и привлеченные к осмотру два специалиста, о работе которых на месте происшествия и её результатах в протоколе не было сказано ни слова.
Чтобы не быть голословным, остановлюсь на той его части, в которой давалось описание следов ног, ставших впоследствии объектом двух трассологических экспертиз. Эти следы в описательной части протокола упоминались лишь однажды. В частности, на второй его странице про место обнаружения следов сказано лишь то, что они находились «на площадке 4 этажа». Предельно кратко описаны и сами следы: «имеется три следа обуви бурого цвета». Этими сведениями описание следов в протоколе осмотра места происшествия исчерпывалось.
Кроме того, судя по содержанию заключительной части протокола, следы обуви «бурого цвета», о которых шла речь в описательной его части как о следах, обнаруженных на площадке 4 этажа, следователем вообще не изымались. Изъятыми оказались перечисленные в описи под порядковыми номерами № 2 и № 3 соответственно три и одна светлые дактилоскопические пленки с фрагментами следов обуви. На первых трех плёнках оказались закреплены следы, хотя и обнаруженные на лестничной площадке 4 этажа, но не «бурого цвета», как было указано в описательной части протокола, а образованные, как выяснилось позже, веществом «серого цвета».
Этот вывод следовал из сопроводительной надписи на конверте, содержащей описание дактилопленок со следами обуви, изъятыми в ходе осмотра места происшествия, и представленными следователем на трассологическую экспертизу. В этом описании речь шла о дактилопленках, на которых имеются следы, «образованные веществом серого цвета», а не «бурого». Происхождение еще одной дактилопленки со следами, направленными на экспертизу, и вовсе установить по протоколу не удалось.
Иными словами, всё говорило о том, что в ходе осмотра были обнаружены одни следы, изъяты другие, а эксперту-трасологу переданы для исследования третьи.
Криминалистические и процессуальные ошибки, допущенные при фиксации следов обуви в протоколе осмотра, дали основание для вывода о невозможности использования заключений трассологических экспертиз, в ходе которых эти следы были подвергнуты исследованию, в качестве доказательств по делу, поскольку их относимость к делу вызывала серьезные сомнения. Такой вывод был сделан, несмотря на то что сами по себе проведенные экспертами исследования не вызывали серьезных замечаний с точки зрения их научной обоснованности, а результаты с точки зрения их достоверности.[776]
Обнаружение доказательств, опровергающих те, которые лежат в основе выводов следствия и суда, но на которые не было обращено внимания либо они не получили должной оценки и не были мотивированно отвергнуты при принятии итоговых процессуальных решений. То, что обнаружению в ходе следствия и судебного разбирательства уголовных дел так называемых «противодоказательств» уделялось неоправданно мало внимания, несмотря на то, что работа по их выявлению всегда рассматривалась в качестве обязательного условия повышения качества расследования и рассмотрения дела судом, в литературе отмечалось давно.[777] Н. А.Селиванов верно заметил: «Не будет преувеличением сказать, что выработка следователем и судьями умения выявлять противодоказательства и с их помощью точно оценивать имеющиеся в деле доказательства – существенный резерв для повышения качества предварительного расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде».[778] Эти замечания касались, правда, самой деятельности по собиранию доказательств в ходе проведения процессуальных действий. Между тем, противодоказательства можно обнаружить и в самих материалах уголовных дел, то есть тогда, когда сведения, опровергающие установленные с помощью других доказательств факты, получены в ходе расследования или судебного разбирательства дела и документально зафиксированы. Однако, ни следствие, ни суд им как «противодоказательствам» либо вовсе не придали значения, либо эти сведения были ими проигнорированы при исследовании и оценке собранных доказательств.
Так, потерпевшая Ш. описывая внешность грабителя в своих показаниях, утверждала, что он был одет в джинсовую куртку. Из материалов уголовного дела: показаний родителей подсудимого Ф., свидетелей, общавшихся с ним в день ограбления, протокола обыска по месту жительства следовало, что такой одежды подсудимый никогда не имел, а в день ограбления он был одет в свитер и кожаную безрукавку. Однако приговор суда, которым Ф. был осужден к лишению свободы, никаких комментариев на этот счет не содержал и не дал оценки противоречиям в доказательствах, которые нашли отражение в материалах дела, но не в судебном решении.[779]
Обнаружение в материалах дела новых доказательств, на которые не было обращено внимания. Такие новые сведения об устанавливаемых фактах можно обнаружить в протоколах следственных действий, приложениях к ним в виде фотоснимков, звуко- кино- видеозаписей, различного рода справках и пр. Давно известно, что фотоснимки, выполненные по правилам судебной фотографии, могут содержать значительно больше информации о запечатленной на них материальной обстановке, нежели ее описание в протоколе. Например, подчеркивая «громадное значение» фотографирования на месте преступления, Р. А.Рейсс еще в начале ХХ века указывал, что «располагая фотографическими снимками, следователь во всякое время может восстановить в своей памяти виденную им картину. Приступая к производству предварительного следствия, следователь слишком часто незаметно для себя делается рабом предвзятой мысли и ищет в исследуемой им обстановке доказательства того представления о совершившемся преступлении, которое он уже составил. Между тем, необходимо считаться со следующим физиологическим фактом: во внешнем мире мы видим только то, что хотим видеть. Поэтому следователь, приступающий к работе с готовым уже мнением, легко может просмотреть в обстановке места преступления ряд подробностей, имеющих решающее значение. Впоследствии, когда ход следствия убедит его в ошибочности его прежнего мнения, фотографические снимки окажут ему неоценимую услугу: на них ему удастся разглядеть такие подробности, которые первоначально прошли для него незамеченными».[780]

