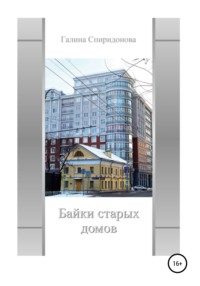полная версия
полная версияСоло в ночи
Прошло ещё десять лет, и вот в журнале, который мне прислали из Москвы, был некролог на Воронова В. В. Трагически погиб, перечислялись его заслуги, хвалили очень. В общем, всё, что в таких случаях пишут, подробности смерти не сообщали, а ведь ему было чуть более 50 лет.
Я заплакала. Вот мимо меня прошла огромная любовь, а смогла ли я на неё так же ответить? Я перевела статью и некролог на английский. Большего сделать для него, как и при жизни, так и после, я не могла.
Музыка на бумаге
Мы шли с кладбища, где осталась лежать моя знакомая, нет, не подруга, а просто знакомая, которую я трепетно обожала.
Муж её Константин шёл рядом со мной и под впечатлением обстоятельств немного приоткрылся.
– Знаешь, Кира, – сказал он. – Ведь я её очень любил, она для меня была святой, недосягаемой, я даже боялся её.
Я-то знала, как он её «боялся», гулял напропалую, дома не ночевал по несколько дней, но материально они жили очень хорошо, ходили слухи, что он рэкетир или как это, короче – бандюган и всё.
Он продолжал:
– Когда мы поженились и она пришла ко мне в дом, то я сказал: «Аличка, что ты хочешь, я всё переделаю». Она ответила: «Убери перегородки в двух комнатах, сделай большое пространство и пианино в центре». Я так и сделал, зал огромный получился, а пианино нашёл немецкое, отремонтировал и поставил, как она просила, посреди зала.
Как играла она, это надо слышать, рассказать невозможно, и я немного постарался записать.
Однажды я возвращался домой поздно вечером – на улице дождь, ветер, погода мерзкая. Вхожу в калитку и слышу – Аличка играет, зал освещён всеми лампочками, окна открыты, и белые занавески развеваются, как паруса, а она играет!
Я прислонился спиной к забору и не могу идти дальше, стою, как дурак, и слушаю, а музыка звенит, и мне кажется, поднимает человека от земли и уносит куда-то в небо – чистое, незапятнанное. Слёзы у меня смешались с дождём, весь промок, а шевельнуться не могу, я на мгновенье погрузился в счастливое состояние.
В дом я не пошёл, а лег спать в бане на лавку, а утром встал на колени перед Аличкой и сказал: «Прости меня». Аличка подошла, положила руки мне на голову и говорит: «Каждый живёт своей жизнью, главное не мешать друг другу».
Костя и сейчас плакал, даже слёз не стирал с лица, а я ему не верила, ведь и после этого случая он не изменился, гулять не перестал. Правда, он открыл своё предприятие по сбору металла, отправлял его вагонами на завод.
Я тоже вспомнила, как мы с Алей познакомились. Работая в г. Урюпинске на заводе старшим бухгалтером, я каждый квартал отвозила в город Волгоград отчёты, до ночи сидела на работе с учётом и отчётностью.
Окончила я Московский институт советской торговли, но сдавала экзамены в Волгограде, где был филиал, около вокзала.
Даже родить спокойно я не могла, никто меня на работе не мог заменить. Последний мой отчёт совпал с рождением сына, мне стало плохо в Волгограде, и меня отвезли в центральный роддом, где и появился мой Ванечка.
В палате было три кровати, на двух лежали женщины уже родившие. Я познакомилась с ними и с удивлением узнала, что одна, её звали Алевтина, была из Урюпинска, жила в центре города, на улице Чапаевской в доме мужа, и пригласила: «Заходи». Я иногда заходила с сыном к ней, послушать музыку, старалась, чтобы дети наши подружились. У неё родилась девочка – Светлана, Аля её обучала музыке с самого детства. Образование у Али было музыкальное, но она нигде не работала, ей предлагали работу в музыкальной школе, детских садах, на концертах, но она отказывалась, даже учеников на дому учила очень редко и по просьбе мужа.
Все звали её Аля, а Костя всегда – Аличка. Фигура у неё была, как у балерины, – высокая, тонкая, пластичная, а лицо белое и как бы прозрачное, некоторые говорили: «Видно, она болеет чем-нибудь».
Но я думаю, что болезнь её – это любовь к музыке такая, которая постепенно разрушала её.
Дом у них был старинный, двухэтажный или полутораэтажный – первый этаж как бы полуподвал, но окна были выше земли. Второй этаж состоял из множества окон с красивыми резными наличниками и большая открытая веранда, по всей ширине дома. С боков какие-то пристройки, как крылья, и много комнат.
Костя не старался ремонтировать дом, говорил, что скоро снесут – город застраивается многоэтажками.
Мама Костина жила в одном из отсеков дома, она была заслуженная учительница, никогда не лезла в жизнь сына.
Я заметила, что у них всегда чисто, и только позже увидела, что к ним приходит женщина убираться. Это была для меня новость, так как ни у кого тогда не было прислуги.
Пришли мы домой, помянули Аличку, я сказала Косте:
– А с этим что будем делать? – и показала на коробку, перевязанную лентой.
Костя ответил:
– Бери и распорядись сама – это её была посмертная просьба.
Я взяла коробку и ушла.
Когда Аля играла, я садилась подальше от неё, чтобы она не видела, что я плачу.
Откуда она берет такую щемящую душу музыку. А на неё в это время невозможно было смотреть – играла, как последний раз в жизни. Как можно так тратить своё здоровье, нервы, душу.
Один раз Аля сказала:
– Кира, подойди сюда, – я подошла. – Здесь лежат ноты – это мои собственные сочинения, я тебе отдаю в полное распоряжение, если хочешь – сожги, если нет, то издай, но никому не отдавай.
Я спросила:
– Аля, а ты почему сама не сделаешь это?
Она ответила:
– Не успею.
Вот так она отдала мне свою «музыку на бумаге».
Дома я посмотрела, что лежит в коробке, и пришла в отчаяние, ведь я бухгалтер, не имею отношения ни к какому творчеству, ни к музыке, как я выполню её просьбу?
Прошло больше года после смерти Алички, звонит Костя:
– Кира, ты можешь приехать ко мне?
Я приехала, и Костя говорит мне:
– Кира, давай поженимся, я тебя знаю давно, тебя любит Светка, мне нужна жена.
К тому времени я разошлась со своим казаком за это же, а теперь такой же «гуляка» предлагает пожениться. Я ответила согласием – хрен редьки не слаще, что будет, то и будет, а дети наши будут под моим присмотром.
Мария Евграфьевна – мама Кости, дала мне добро, я пошла к ней, прежде чем сказать «да», и спросила её мнение. Она ответила: «Кира, а ты не забыла жизнь Али и Кости? Сможешь повторить эти испытания? Ведь ты со своим разошлась по этой же причине, или ты думаешь его перевоспитать, как думают многие женщины, то это выкинь из головы».
Но я уже приняла решение, ещё на пороге комнаты Марии Евграфьевны.
– Буду жить здесь, воспитывать детей, приведу в порядок музыку Али, а может, со временем и Костя образумится, я ведь не Аля, могу и скалкой по голове.
Костя давно мне нравился, его женщины любили за то, что он к каждой относился, как к королеве. Вот в таком настроении или состоянии я стала женой Кости.
Раз я заняла место Али, то я тут же рассчиталась с работы и занялась расшифровкой Аличкиной музыки. Как это сложно. Я просила некоторых пианистов проиграть произведения, чтобы оценить. Я боялась оставлять кому- либо тетради для разучивания, а вдруг украдут. У меня опускались руки, я не понимала музыки. Светлана, как могла, проигрывала некоторые произведения, но ни она, ни я не могли разобраться в них.
Один раз я разложила вокруг Аличкиного пианино все её произведения и решила всё пронумеровать и составить опись, раз большего не могу сделать. Сижу на полу и причитаю: «Аля, прости меня, но что я могу сделать только как бухгалтер – переписать всё».
Вдруг входит Мария Евграфьевна и говорит:
– Кира, я тебе помогу. На письмо к моему старому знакомому, он работает в Волгограде в музыкальном училище – консультантом, он поможет.
Она это сказала с уверенностью, и я поняла, что мне помогут.
Я пронумеровала все документы, доделала опись в том порядке, в каком их сложила Аля, и стала думать – когда ехать в Волгоград, где остановиться, брать все ноты или нет.
Костя продолжал свою жизнь – в бизнесе у него было всё в порядке, но личную жизнь он расходовал на всех баб, которые оказывались на его пути.
Странно, но я не обращала на него никакого внимания, я как бы превратилась в Алю, только я не играю на пианино, а ползаю около него и гляжу на эти точки, закорючки и думаю: «Всё равно разберусь». Какое повторение судьбы!
Костя одобрил предложение матери, и мы поехали в Волгоград.
Знакомый Марии Евграфьевны был мужчина тех же времён, очень интеллигентный, пригласил молодого преподавателя и попросил проиграть немного из тетради, которую я дала.
Когда зазвучала музыка, я как бы увидела Алю и поглядела на консультанта, хотела узнать его впечатление, но узнавать не надо было, он отвернулся к стене и вытирал слёзы. А молодой играл и играл, правда, немного сбиваясь.
Все вопросы были решены, мне пришлось около двух лет побегать, но в итоге был выпущен нотный альбом с музыкальными произведениями Али.
Костя оплатил все типографские расходы, услуги музыкантов, консультантов, которые помогали мне, затраты были немалые, но он не жалел денег, а на меня глядел с теплотой и благодарностью.
А Светочка растёт! Сама стала делать аранжировки к маминым произведениям, кое-что сочиняет сама, мы даже договорились с одной группой записать диск.
Ванечка пошёл по военной части. Растёт моя опора!
Костя успокоился, стал больше проводить время дома. Сядет и слушает, как Света играет и создает свою музыку.
О чём он в это время думает, никто не знает, может, осуждает свою разгульную жизнь, а может, одобряет – и бурная молодость была, и старость наступает спокойная и музыкальная. А может, вообще ни о чём?
Когда заборы были низкими
Пойма моя – грибная, рыбная, водная, росистая, сытная – как я люблю тебя! Эти тёплые слова к своей родине я пронёс через всю жизнь. Я часто навещаю посёлок Великий Октябрь, где остались мои родственники и друзья. Мой друг Михаил сказал, что недалеко от нашего поселка строится новый, называется Царицынская усадьба. Я попросил сходить туда и посмотреть на этот «новострой».
Очень близко строится большой посёлок, дома огорожены высокими заборами. Я сказал, что это действительно дворцы, что даже помещичьи усадьбы, описанные великими, с ними не сравнятся. Кто теперь поглотит кого – Великий Октябрь Царицынскую усадьбу или наоборот. Хорошо, если бы эти два посёлка слились в один. В большом посёлке лучше жить, и школа больше, и культурные заведения будут работать, молодёжь останется жить, производство какое-нибудь откроется. Газ уже провели в конце 2014 года, это радость большая – долой печки и дрова. Мост через Волгу построили – 25 минут, и на месте, где надо. Ерики, озёра чистят, воду обещают провести. Вопрос – умрёт ли наш Великий Октябрь или нет теперь, мне кажется, не стоит уже.
Мои родители, как все, выращивали в парниках раннюю зелень и овощи. Скотины и птицы было много во дворе, работали практически весь день. За овощами приезжали из города и забирали для рынков г. Волгограда. Раньше не было иностранных овощей, мы обеспечивали себя и ближайшие города, и даже в Москву отвозили овощи. А какие были помидоры – крупные, красные, сладкие, а разломишь, то середина вся в инее, а запах «помидорный» – сейчас уже не встретишь.
Потом наступила «смерть парникам». Вышел закон, который не позволял отапливать теплицы. Установили ограничения, до каких-то размеров, площади парников. Вот это был настоящий «стон на Волге». Даже дошло до того, что приезжала милиция и собственноручно ломала теплицы во многих посёлках, если местные не подчинялись и не ломали с таким трудом построенные эти укрытия для овощей. В один миг было нарушено давно определённое стариками производство – это выращивание ранних овощей, а где их больше выращивать, как не в пойме? Многие импульсивные сразу уменьшили свои парники и сказали, как наша соседка тетя Лиза: «Вот всё, как отмою пятки и руки, так больше не буду заниматься выращиванием на продажу, а только для себя».
Про руки хочу сказать очень важное. Я всё время думал, что руки у взрослых должны быть тёмными, а пальцы посечены мелкими шрамчиками. Мама руки каждый вечер смазывала коровьим маслом и говорила: «Где им зажить? Всё время в земле и воде». Когда мама гладила меня, то как щёткой проводила по голове.
Но пойма выжила, снова начали выращивать овощи под боком у Волги-матушки, которая ухаживает за ней, как за ребёнком, – и моет, и поит, и кормит.
Нам с Михаилом сейчас сто лет на двоих. Мы смеялись и вспоминали, как прыгали с трамплина, построенного из мешков с песком на ерике. Как рыбачили летом, как голуби закрывали всё небо и летали над нами, как пасли стадо и ездили на лошадях. Вспоминали и деревенского философа дядю Васю, и много ещё чего из того времени, когда заборы были низкими.
Мы вспомнили людей, с которыми жили в посёлке. Нам было уютно жить с ними в детстве и потом, когда учились в городе и приезжали домой. Как все друг другу помогали в больших делах – строительстве, вспашке, ремонте, да и деньгами тоже.
В памяти всплывали подробности, которые мы как бы совсем забыли, но сама местность доставала их оттуда и мы вспоминали о некоторых людях довольно подробно.
В доме на главной улице, разделённом на две половины, жили две бабушки. В одной половине дома – бабушка Люба, во второй – бабушка Клава. Бабушка Люба, после того как умер её муж, стала жить одна, детей у неё не было, а к ней приезжал племянник каждый выходной и по списку делал всю мужскую работу. Картошку сажал, ремонтировал общую крышу, колодец поправлял. У бабушки Клавы никого не было вообще. И вот какая история была у них. Обе бабушки задумались, как зарабатывать, хоть немного. Они списались с родственниками из города Урюпинска и поехали за козами. Почему в Урюпинск? Они говорили, что только там были козы, которые давали и пух, и молоко. Как они везли этих коз – это особый рассказ. Из Урюпинска до Алексиково они трёх коз погрузили в вагон-пульман, то есть закрытый, глухой как бочка. Было темно, холодно, и они по этому, как бы сказать, вагону бегали за козами и так грелись. В вагоне были и другие люди, в основном молодые, они пели и танцевали в темноте. Правда, ехали они совсем не долго – менее часа. А что делать, они говорили: «Грузовой был очень удобным, как раз к ночному пассажирскому из Москвы». Прибыли они на станцию Алексиково и сразу пошли к дежурной и спросили: «Как доехать с козами до Волгограда?» Дежурная сказала, что сейчас будет поезд, проситесь в почтовый вагон, если возьмут, то к утру доедете. Всё обошлось благополучно, две молодые бабушки умудрились привезти в посёлок трёх коз из Урюпинска. «Просить помощи у мужчин – себе дороже», – так они выразились. Вот и начали вязать платки, обеспечивали себя небольшим доходом, да и молоко козы давали хорошее, очень важно, что почти не пахло. Надо было видеть, как эти женщины старались выжить, сажали овощи, носили к дороге продавать.
Работы на селе было мало, а в старости, если некуда уехать, то конец вообще жизни. Домик у них был ухоженный, они его белили извёсткой, а окна красили голубой краской. Во дворе они на двоих поставили качалку и качали воду для огорода. Сада у них не было, только сосна росла, орех и яблоня китайка, в палисаднике рябина. Они часто рассказывали про своих мужей. Мужья были азартные рыбаки. Ещё солнце не вставало, а они уже кучковались во дворе, собирали и пересматривали своё снаряжение и потом на мотоцикле с коляской уезжали на ерики или речку. Бабушки говорили, что без рыбы и дня не было, а сейчас, спасибо соседям, которые с рыбалки приносят им рыбки.
Прошло много времени, обеих бабушек уже нет, домик их снесён, и построен на этом месте дом побольше и посовременней.
Всё меньше и меньше осталось людей, которые помнят своих земляков. Многие ушли из жизни, другие уехали в город, похоронив родственников.
Был у нас голубятник дядя Федя. Он постоянно гонял голубей, которые жили у него на чердаке, а потом отстроил красивую голубятню, а голуби какие были? Красивые очень, а на ногах были бантики из перьев (шпоры). Он привозил их из Волгограда. Взрослые говорили, что платил очень дорого за них, и всё время добавляли, что пустое это занятие. Голубей он сторожил очень, к нему приезжали издалека, и он продавал молодых птиц. Говорили, что простых голубей он держал для еды, но это взрослые шутили, наверное. Дядя Федя заболел, сидел во дворе и глядел на голубей. Через какое-то время его не стало. Жена его, тоже уже немолодая, не могла ухаживать за голубями. Распродала дорогих, а простых раздала ребятам. А ведь голуби по старой памяти ещё очень долго прилетали к ней во двор, хотя голубятню она переделала в сарай. Она кормила их и говорила, что это Федя ей весточку подает. Долго она жила одна, а потом её забрала в город дочка, так как за ней нужен был уход.
Все уже забыли про голубей, кроме нас, уже далеко не мальчишек, как мы глядели в небо и свистели, а в небе летали голуби, как снег во время пурги, а потом садились нам на голову и плечи, а мы их кормили с рук крошками.
Мы остановились около развалившегося дома и стали вспоминать, кто в нём жил. Дом принадлежал одной женщине, она похоронила сына. Он побывал в Афганистане и как пришёл домой с войны, так недолго пожил. Она практически побиралась, огород не сажала, хоть земли было много, на работу ни на какую не нанималась. Ходила на могилу сына и была там до вечера. Вечером, когда приходила домой, находила у себя на крыльце в кадушке то молоко, то кусок сала, хлеб, отварную картошку и другое. Дрова они не привозила, уголь тоже, и зиму она находилась в школе. Ей отделяли сторожку. Так, перезимовав, она опять жила своей особенной жизнью.
Потом вдруг её не стало, все искали её, кто-то видел, что она шла по дороге до трассы, и всё. Дом её никто не занимал, там завелись осы, их было много, и все обходили стороной его, сейчас остался один фундамент. Я один раз был у неё дома, меня мать послала отнести в её кадушку еду. Я положил, накрыл крышкой, а потом толкнул дверь в дом. Дверь отворилась, я со страхом зашёл в комнату. Было чисто, полы смазаны глиной, кровать железная, накрыта одеялом, скамейка сбоку стояла и стул. Ни тумбочек, ни шкафов никаких не было, казалось, что здесь не живёт никто. И действительно, после смерти сына она не жила и сгинула так, что никто не узнал куда. Только, вспоминаю, взрослые говорили, что когда наступал родительский день и все шли на кладбище, то могила сына этой женщины была уже убрана. Шёл слух, что она убирает сама ночью, а может, кто из посёлка убирает и молчит. Да, вот вспомнил, как её звали – тётя Фрося, больше о ней никто ничего так и не узнал.
Жил у нас в деревне один неординарный человек, звали его дядя Вася. Он был на все руки мастер, даже грамота у него есть. Он выиграл на соревновании механизаторов по качеству и скорости ремонта сельхозтехники. Он рассказывал, что надо было обнаружить поломку и быстро отремонтировать из подручного материала. Грамота висела на стене, вся была засижена мухами, но всё-таки можно разглядеть все слова благодарности. Отец мой ходил к нему на беседы, так как он был ещё и большой философ. Отец брал бутылку самогона и шёл к нему общаться. Дядя Вася один раз в месяц уходил в запой, тогда жена его уезжала в Волгоград.
Отец говорил, что Василий умный человек, со своими особенными взглядами на всё, и беседовать с ним и спорить по некоторым вопросам – одно удовольствие. Меня отец с собой не брал, так как дядя Вася очень ругался матом в беседах. Дядя Вася жил долго, и после смерти моего отца я бывал у него. Мы часто вспоминали об отце, о той прошлой жизни. Он многое мне дал в своих беседах, я на многие вещи стал смотреть по-другому.
Он говорил: «Вот посмотри, мы сейчас друг к другу уже не ходим. Заборы стали высокие, и люди себя посадили в замкнутое пространство, ограничивая в общении с теми, у которых плетни и заборы низкие. Раньше работали мы вместе и друзья были в основном по работе, соседству, а сейчас с кем дружить, если их вообще не знаешь, что у них на уме, как жили, где жили, нет даже ниточки никакой для разговора. А ведь тогда телевизоров не было, а темы для разговоров находили, а сейчас каждый живёт как на зоне, только охрана в голове.
Дядя Вася жил один, он давно перестал пить и часто сидел на лавочке около дома, а кто идёт, он приветствует и приглашает посидеть. Вот тем, кому надо поговорить, или посоветоваться, или поплакаться, то шли к нему на лавочку. Дядя Вася для всех найдёт слово и подо всё подведёт свою философию, да так, что человек успокаивается и уходит довольный. Он не был религиозным и политикой не увлекался, как другие. Я многое от него перенял, и от отца тоже – это уживчивость с людьми и уважение к мнению других. Одно я не могу понять – откуда у деревенского мужика, где было мало какой-либо информации, такая философия развилась. Потом понял – от природы. Она, природа, была доступна ему, а он доступен природе.
Есть у меня ещё один друг старше меня – Борис. Я к нему завтра зайду. Он с молодых лет рисовал, родители говорили, что поедет учиться дальше на художника, но жизнь повернула по-другому. В армию его забрали на два года, вернулся с женой. Служил он около Москвы в г. Калинине. Родители были недовольны, так как он не мог уже учиться, да и скоро должен был появиться ребёнок. Нина, его жена, родила сначала сына, потом дочь. Борис рисовал хорошо. У них в комнатах висели картины: «Три богатыря», «Алёнушка» и ещё много на собственные сюжеты, просто, как в картинной галерее, мы ведь ничего такого красивого не видели. Борис не поехал, конечно, никуда, а окончил в Волгограде строительный техникум и работал в городе Волжском на стройке. Нина заболела, ей было тогда чуть за 40 лет, когда она умерла. Борис работал, а дома стал вырезать из брёвен фигуры разные из сказок и выставлять на улице и во дворе. Рисовал картины для школы и клуба. Фигуры выставлял на видных местах, но люди это не ценили, ребята вырезали на них непристойные надписи, бабы привязывали к ним коз. Дети его выросли и уехали учиться и жить в Волгоград. Звали отца к себе, но он не уезжал из деревни и продолжал своё искусство.
Отпуск мой заканчивался, я проведал всех родственников, знакомых и незнакомых, рыбачил с ними. И вот пошёл к Михаилу, взять посылку для его дочери – она живёт в Москве. Посидели мы немного, его жена старалась в дорогу положить мне еду. Михаил пошёл проводить меня к калитке и сказал:
– А знаешь, я с женой тогда чуть не разошёлся, – на мой вопрос «почему?» он продолжал: – Как родились дети-погодки, так и начался разлад. Меня ругает во всем, а я работаю с утра до ночи, и нет никакого уважения. Я пошёл к дяде Васе. Сел к нему на лавочку и сижу. Люди идут, здороваются, стадо прогнали, а я сижу и не могу сказать, зачем пришёл. А потом сказал, что решил развестись, так как жить просто невозможно – одна ругня у нас и большинство из-за детей. Дядя Вася смотрел на меня, молчал, а потом говорит: «Бабы они все одинаковые в одном, у них инстинкт – кого родят, того и любят». Потом помолчал и продолжил: «А вот как дети подрастут, то этот инстинкт перебросится на тебя, чтобы с тобой их поднять и потом от них же обороняться».
– Прошло много времени, – продолжал Михаил. – Мы как-то с женой сидим вечером одни, дети учатся в Волгограде, и она говорит: «Вот дураки мы, чуть не разошлись смолоду, спасибо дяде Васе – образумил меня философ». Я так и замер, думая, что она про меня знает, а она продолжала: «Я ходила к нему за советом, он сказал: “У тебя трое детей – дели между ними свою любовь, а кому и сколько – смотри сама”».
Я сел в машину и поехал. Михаил долго стоял и глядел вслед. «Хорошо иметь такого друга», – подумал я.
Башкирка – родина моя
Мне всё время хотелось поехать на хутор Башкирка Комсомольского района Сталинградской области (сейчас Волгоградская), да как-то всё не получалось.
Но вот когда я купил «Запорожец», который пригнал из Москвы, то решил – обязательно поеду. Собрались мы туда с семьёй – женой и дочерью, ей было тогда 7 лет. Подъехали к тому месту, где был хутор, который как неперспективный снесли. Я всё вспомнил, хотя прошло более трёх десятков лет. Дома на хуторе все были снесены, остались только разрушенные фундаменты, да и те заросли травой и с трудом можно различить. Но свой дом я нашёл сразу, то есть только фундамент. Дом у нас был какой-то круглый, пристраивали без конца. Около нашего дома был дом бабушки и дедушки Куркиных, затем дом Жуковых, потом Авдеевых. За прудом через плотину была улица настоящая, там было больше домов и школа четырёхлетка, но мы дружили только с ребятами с этой стороны пруда. А на той стороне жил мой дядя Куркин Григорий Васильевич, у него было двое детей – Тая и Дима. Родник проходил по хутору и питал пруд, из родника мы брали воду.
Хозяйство у нас было большое: корова, поросёнок, несколько овец и птица разная. Сад был, сейчас только осталась груша-черномяска и тёрн мелкий. Жили мы в достатке, семья наша была большая:
мама – Митина Екатерина Борисовна;