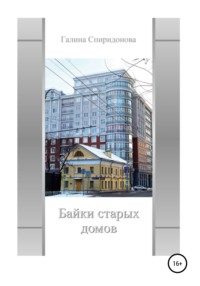полная версия
полная версияСоло в ночи

Галина Спиридонова
Соло в ночи
Соло в ночи
Я ехал скорым в Москву из Волгограда. Вот уже стало темно, и все пассажиры, как бы сказать, – угомонились. Разложили вещи, выпили чай, немного пообщались и улеглись. У меня были ночи, когда я не спал совсем, вроде ничего и не болело, и ничего тревожного накануне не было, а не спал и всё.
В эту ночь тоже не спал, но лежал тихо. Вдруг я услышал пение, которое доносилось из коридора. Пел мужчина, голос был бархатный, приглушённый, проникновенный. Я сам когда-то в молодости играл на баяне, музыку подбирал по слуху, а ноты сам освоил значительно позже, слух у меня был, и я сразу определил, что певец поёт правильно, как бы сказали, классически, не изменяя в песнях ни одной ноты.
Я слушал певца и молил Бога, чтобы тот пел и пел. Время было около часа ночи, во всех купе было тихо, может быть, люди спали, а может, слушали. Обычно если в коридоре или купе кто-то шумел, то быстро пассажиры на это реагировали, а тут могильная тишина, даже на стоянках в наш вагон никто не садился.
Он пел все песни 60–70-х годов, совсем забытые нами, были песни и лагерного характера, но культурные. Так продолжалось часа полтора. И когда он запел песню «Сиреневый туман», так как мы пели раньше, я её тоже играл на баяне, я спустился с полки и вышел.
Через два купе перед открытым окном стоял мужчина, седая голова, высокий, видно, в молодости был очень красивый, это сразу было видно, очень ухоженный. Я подошёл и стал тоже смотреть в окно молча. Мужчина пел и смотрел на меня через отражение в стекле. Так мы стояли минут тридцать. Мужчина перестал петь, может, песни кончились, может, душевный порыв иссяк, а может, моё присутствие нарушило его состояние.
Он повернулся ко мне и сказал:
– Нахлынуло что-то.
Я сказал, что немного понимаю в музыке, сам играл.
– У вас голос очень хороший, завораживающий.
Мужчина сказал:
– Я знаю это, послушали бы вы меня лет тридцать назад, только оценить было некому тогда на зоне.
Я смотрел на него вопросительно, а он продолжал:
– Да-да, на зоне, где я провёл много лет за спекуляцию. Надо было троих детей кормить, а жена была при смерти, вот всё и завертелось в этом котле. На зоне я пел, играл на баяне. Начальник даже говорил: «Тебе бы на большую сцену – голос у тебя штучный». После освобождения жизнь была осторожной очень, боялся многого, драк, ссор и т. д. Казалось, что я живу, как в песне поётся, с одним крылом – вроде и птица, а не могу летать – надорвалось во мне всё.
До тюрьмы я не был хулиганом, окончил железнодорожное училище, водил тепловозы, обзавёлся семьёй, домом. На зоне я остался прежним, я всё время думал, что нельзя опускаться до уровня уголовника, вот выйду и начну новую жизнь. Вышел и понял – новой жизни для меня нет. Я второй сорт, а может, третий. Нет, пить я не стал, удержал себя от этого, но страх в душе поселился, потому что с человеком можно сделать всё что хочешь.
Вы, может быть, скажете, что судьба у многих такая, и они не сдались. Я знаю, но за ними стояли родственники, коллективы, друзья и т. д.
Они были не одни в своей борьбе, а я один, просто один и дети, которых надо воспитывать, которым я нужен.
А сегодня на меня накатило всё, может, погода тихая, может, небо звёздное, захотелось в песнях всё высказать. Простите меня, что вам спать не даю.
Я пожелал ему спокойной ночи и пошёл в своё купе. Долго ещё не спал, думая об этом человеке, который сам себя обвинял в слабости, а может, в его страхе и слабости и была его сила.
Осторожность его сохранила от неприятностей, которые могли быть, дала возможность воспитать трёх дочек, а это, может, главное в его жизни. Мне показалась, что он это и сам понимает, а всё остальное – так, накатило!
Разбитая жизнь
Я лежу в палате один, операция сделана, одной ноги нет. Вторая пока здоровая.
Врач сказал: «Моли Бога, чтобы гангрена не началась на второй ноге».
Скоро придёт моя старшая дочь Галичка, она и определила меня в больничный комплекс на операцию. Дочки мои очень заботливые, сами за мной ухаживают по очереди. Галичка говорит, что лишь бы вторая нога не заболела, а с одной ногой можно жить, и коляски, и протезы хорошие продаются.
Я лежу спокойно, боли нет, но кажется, что нога есть. Если вздремну, то всё время бегаю, и так ясно, что просыпаюсь, щупаю, но ноги нет. Есть время вспомнить всю свою жизнь, посомневаться в чём-то, а то и признать ошибки.
Самая счастливая пора была – это после школы, учёба в железнодорожном училище. Какая красивая форма, как она мне шла, да у меня ничего из одежды хорошего не было. В училище я познакомился со своей будущей женой Раечкой. Мы все жили в общежитии. У меня сохранились фотокарточки, где мы с друзьями справляли праздники, гуляли. Мне тогда казалось, что жизнь – это вечный праздник: учёбу люблю, девушку люблю, железную дорогу тоже.
С Раечкой мы поженились, нас направили работать под Москву на станцию Столбовую. Меня на тепловоз, Раечку на работу при станции. Пошли дети – все девочки друг за другом – Галичка, Томочка, Люся.
Беда случилась неожиданно. Раечка получила заражение крови из-за женских дел, так как не хотела больше иметь детей. В больнице пролежала неделю, пенициллин и другие антибиотики не давали, угрожали судом.
Я остался один, началась другая жизнь, полная забот о детях. Я уезжал на двое суток, а девочек замыкал в доме одних. Есть было нечего, и я стал покупать в Москве или по пути какие-то продукты и дороже продавал, выкраивая немного для детей. Девочки меня очень ждали под замком, они всего боялись, плакали – ведь им было 6 лет, 5 лет и 3 года. Боже мой, как я за них боялся и как в таком состоянии работал на тепловозе.
Но всё это скоро кончилось, меня на станции взяли милиционеры и сказали, что это спекуляция, и арестовали. Не буду вспоминать о том, как я просил только сбегать домой и убедиться, живы ли они. Детей определили в детский дом, меня в тюрьму в город Игарку.
Я в своей жизни ни до тюрьмы, ни после не писал писем, а из тюрьмы столько писал детям, что хватило бы на много романов. Я описывал всё, что разрешалось, леса, снега, реки, северные сияния. Девочки мне тоже писали, как могли, с каждым годом всё лучше и больше. Учительница читала в классе мои письма. Я, когда узнал, что мои письма читают всему классу, стал писать лучше, старался делать меньше ошибок. Девочки мои писали, что учительница Мария Ивановна видела мои ошибочки, но говорила, что очень трудно писать в неудобных местах.
Я играл на баяне, и мой брат Степан прислал мой баян в Игарку. В тюрьме меня определили к заключённым, которые соображали в технике. На реке Игарка шло строительство, мы собирали и запускали турбины. Я старался выжить, не пил, не курил, уходя в тайгу на работу, собирал дикий чеснок от цинги. Но всё-таки ногу обморозил, и она дала о себе знать сейчас.
Все годы, проведённые в заключении, я вставал с мыслями о дочках, а вечером мысленно желал им спокойной ночи. Сколько дум я передумал там, казнил себя за жену и детей. Так прошло много лет, наступил 1953 год. Умер Сталин. Меня выпустили, и я сразу поехал за дочками в детский дом, я их по фотографиям сразу узнал.
Приехали мы в Урюпинск к брату Степану, но у него негде было разместиться, только лишь временно. Я работал очень много. На маслозаводе механиком в три смены. Хватался за любую работу, чтобы обеспечить детей. Я всё время чувствовал перед ними вину, даже сейчас, когда они сами родители.
Девочки у меня умные, все закончили институты, поступили на работу, обзавелись семьями. Все мы живём раздельно, но часто бываем друг у друга. Я продолжаю играть на своём баяне. Часто играю вальс «Разбитая жизнь», и мне кажется, что эта музыка прошла по моей жизни.
Доченьки мои, простите меня за ошибки, я больше жизни любил вас. Томочка сидит и гладит мою ногу и что-то говорит, отвлекая меня. Вот уже стучит каблуками Галичка, она ходила к врачу, и врач сказал, что анализы хорошие, можно через два дня выписывать.
Я гляжу на них и говорю:
– Дочки, как я вас люблю!
А Галичка отвечает:
– Ты не знаешь, как мы тебя любим.
– За что? – вскрикнул я.
Дочка серьёзно сказала:
– За то, что ты есть, за то, что не бросил нас.
Детство в детском доме «Серебряные пруды» с 1947 по 1953 годы
Мы сидели на столе, в доме было темно, лампу не зажигали, потому что не умели это делать. Мы – это три сёстренки, маленькие совсем. Гале было 6 лет, Томочке 5 лет, Люсе 3 года. Нам предстояло ещё одну ночь пережить, а утром приедет папа, и откроет дом, и привезёт что-нибудь поесть, об этом думала каждая, и становилось не так страшно. Сначала, когда стемнело, было страшно, казалось, кто-то ходит по двору и заглядывает в окна, но потом мы спускались со стола, ложились на одну кровать и потихоньку засыпали.
Отец наш работал машинистом на станции Столбовая, недалеко от Москвы, и каждую смену он оставлял нас одних дома под замком, так как мама лежала в больнице.
Мама болела недолго, но не смогла выздороветь, так как не было лекарств, как сказал папа. Уже позже мы узнали правду, что мама не хотела больше иметь детей и сделала аборт на дому, а в то время было строго с этим. Её спрашивали, чтобы она сказала, кто сделал, и тогда ей дадут лекарство – пенициллин, но мама молчала. Началось заражение крови, её обрили – когда мы пришли в больницу, то мы её не узнали. Наша мама красивая, кудрявая, а эта женщина лысая, худая, жёлтая. Побыли мы в больнице недолго и поехали домой. Папа всю дорогу вытирал слёзы. Через неделю приехал папа и сказал, что больше у нас нет мамы.
Видно, мы тогда не понимали, что такое нет мамы, потому что играли во дворе, а в доме стоял гроб, в нём лежала мама. Какие-то люди вокруг ходили, когда нас посадили за стол покушать, то Люся – ей три года – взяла тарелку с кашей и понесла к гробу и говорит: «Мама тоже кушать хочет».
Я, старшая сестра Галя, которая пишет эти воспоминания, вместе с сестрой Томой пошли в палисадник, нарвали много цветов – георгинов и положили в гроб. Всю жизнь с этими цветами у меня связаны воспоминания о смерти матери, это был 1947 год.
После похорон папа сказал, что приедут родственники из Урюпинска и помогут нам. Мы так же играли, бегали от драчливого петуха, и я не помню, чтобы мы плакали по маме. Я даже не помню, чтобы я плакала и позже, где-то до четырнадцати лет, а потом только поняла, что потеряла самого дорогого человека. У нас после и семьи, как у всех, не было, но об этом я позже напишу, а пока скажу – я сильный человек, никогда на людях не плачу, но по матери стала плакать по ночам или когда никто не видит вот уже более пятидесяти лет.
Сейчас я и мама, и бабушка, у меня трое детей и шесть внуков, но на моей голове никогда не лежала рука матери, но я не позволила ожесточиться на жизнь, на её обделённость. Отдаю любовь детям, хочу долюбить их и за себя, недолюбленную матерью, которая ушла от нас совсем рано.
Приехали родственники со стороны мамы, забрали маленькую Люсю и увезли в город Саратов, так сложилась судьба, что нас разлучили навсегда. Родственники со стороны отца взяли нас в город Урюпинск и определили в детприёмник. Отца в это время не было с нами, его арестовали. Он работал машинистом и, чтобы нас прокормить, купил что-то и хотел продать, а законом запрещено это делать, и его посадили. Сегодня такая деятельность приветствуется.
Потом, как он рассказывал, его и ещё одного парня посадили в комнату под замок, тот парень разбил окно и убежал, а отец говорит: «Куда мне от детей бежать» и остался. За спекуляцию дали 10 лет, не пожалели нас, сирот.
Тётя Клава и дядя Стёпа нас проведывали, но у себя оставить не хотели, хотя относились к нам хорошо, особенно дядя Стёпа – папин брат, у них своих детей не было. Помню, у них была корова, и мы втроём – тётя Клава, Тома и я ходили на луг её доить. Нам приходилось переходить три ерика, которые кишели пиявками, когда выходили, то от ног их отдирали по несколько штук, но это так, сильные детские впечатления. Жили тётя Клава и дядя Стёпа около церкви – это место в городе Урюпинске называлось Опарохом, так как часто стоял туман, дальше были луга, торфяник, где мы сажали огороды, бахчи. Сейчас этот торфяник засыпан большим слоем песка при строительстве моста через Хопёр.
Из детского приёмника нас отправили в детский дом в станицу Зотовскую Алексеевского района. Пробыли и там недолго, так как детский дом решили перевести в «Серебряные пруды» под город Фролово Волгоградской области.
Когда мы приехали во Фролово, очень обрадовались, что будем жить в городе, но нас, можно сказать, своим ходом (пешком) отправили в «Серебряные пруды». Кто посильнее, шёл сам, а слабые, как моя сестра Тамара, иногда садились на подводу.
«Серебряные пруды» – это место недалеко от города Фролово, там был небольшой посёлок, но потом его не стало, видно, переехали все в соседнее село. Главное – это усадьба графа, по слухам, Воронцова, а может, и другого.
Дом-усадьба был как терем, на самом верху смотровая площадка. На первом этаже располагались наши спальни, на втором всякие кружки. Столовая было отдельно, была и баня около пруда, в котором мы не купались.
Если ехать мимо, то вполне можно не заметить это место, потому что «Серебряные пруды» расположены как бы в чаше и не видно с дороги. Три пруда соединялись между собой, система очищения естественная была, вода была очень чистой, а дамбы между прудами очень высокие. Вокруг росло много деревьев, которые, видимо, этот граф специально привозил из разных мест и сажал по всей территории. Пять лет мы провели в этом детском доме, плохого наша память не оставила ничего.
Учительница наша Мария Ивановна – старая женщина – очень много нам рассказывала, читала вслух, прививала нам поведение какое-то дворянское. Папа нам часто писал из тюрьмы, он сидел в городе Игарка, про северное сияние, про большие снега, про морозы, леса. Мария Ивановна все письма от отца читала в классе вслух и рассказывала про эти сияния подробно и про север вообще. У меня и сейчас, как увижу радугу или что-то яркое на небе, всплывают воспоминания из детства.
Мы с сестрой благодарны своей первой учительнице за то, что она своим уважением к нашему отцу, не зная его, расположила наши чувства к нему в нужном направлении.
В детском доме было много детей совсем без родителей, у многих, как и у нас, родители сидели в тюрьмах. Кормили нас хорошо, одевали в то, что шили воспитатели или привозили из Фролова, красивые ситцевые платья. У нас сохранились фотокарточки, так как мы фотографировались, чтобы отправить папе в тюрьму.
Первый костёр помню в «Серебряных прудах» – это было зрелище – читали стихи, пели песни, танцевали. Было большое подсобное хозяйство, плантация, сад, и мы в обязательном порядке работали там. Работали мы на плантации, пропалывали руками траву в помидорных и огуречных грядках, не помню, чтобы у нас были какие-то инструменты. Всё лето собирали падалицы – яблоки, груши и относили в столовую для компота. Помидоры и огурцы собирали для столовой и для склада, где их солили. Склад – это странное сооружение с круглым потолком и такой толстый, как мы о нём говорили.
У нас был и свой, как сейчас бы сказали, бизнес. На всей территории росла бузина красная и чёрная. Нам предлагали её рвать и вымывать семена. Ещё раз хочу сказать, никто не заставлял это делать, а за семенами приезжал на лошади дядя, который производил оплату за сданные семена мячиками резиновыми и шерстяными, прыгалками, вязальными крючками и большими иголками. Потом все эти игрушки становились общими, так как все игры были общими, тогда это было настоящим сокровищем.
У нас была сцена, как потом я видела в Урюпинске в горсаду, только маленькая. Во время праздников на ней проводились выступления – танцы, хор. До сих пор помню песни патриотические и про Сталина.
В обычные дни мы играли на сцене в «выбивалки». Это когда несколько девочек были на сцене, а другие с земли кидали в них мячом, и та, в которую попадали, уходила со сцены. Ещё увлекательная игра с мячом – это головой бить по нему около стены, мяч попадал в стену, отскакивал, и снова головой, и так кто больше сможет удержать и ударить в стену. Верх совершенства – это сто ударов.
Плавали мы практически летом весь день в пруду. Все умели плавать. Воспитатели, как мне сейчас кажется, не глядели за нами, но это неверно, так как никаких несчастных случаев не было. Резиновых кругов не было. Нам шили сатиновые трусы на веревках снизу и сверху, мы их надували и плавали, как на кругах.
Пруды соединялись между собой большими проёмами в дамбах, вода переливалась без конца из одного пруда в другой, мы боялись рядом плавать, чтобы не затянуло.
Деревьев было около прудов много, огромные ветки опускались до самой воды, и мы днями с них прыгали, как сейчас назвали бы, с тарзанок.
В прудах водилось много раков, их некому было ловить, так как на территорию запрещено было приходить чужим людям. Раков ловили руками в корнях деревьев, которые росли у самой воды. Но самое интересное было смотреть, как рак хватался за комочек хлеба, завёрнутый в тряпочку и подвешенный на нитку. И вот когда рак подплывёт и хорошо схватится своими клешнями за этот комок, можно спокойно опускать руку в воду и брать его за спину – это безопасный способ лова.
Собирали нас на обед горном – была такая музыка, мы её пели «Бери ложку, бери хлеб и иди на обед». После ужина была минута построения, опускали с шеста флаг, а утром поднимали его. Всё проходило в торжественной обстановке.
Обслуживали мы себя сами – убирали спальни, дежурили в столовой, убирали территорию около дома. Подальше от основных корпусов за прудами были луга, лес, поля и лесопосадки вокруг. Нам только это и запрещали – ходить дальше нашей территории, особенно когда приезжали люди на покос травы и на работу в поле. Мы и не ходили туда никогда и даже боялись этих территорий. Вечером, когда становилось тихо, из леса слышались голоса и музыка, это ещё больше усиливало страх. Уже взрослой я предполагала, что это от радио в естественной чаше образовывалось эхо.
Самое интересное, что, когда я с сестрой приехала в последний раз посмотреть на наше маленькое детство, мы пошли по всем прудам, дамбам и, когда подошли к запретной территории, одновременно повернули назад. Вот так сработал инстинкт, выработанный нашими умными воспитателями.
Слухи о том, почему пруды назвали Серебряными, доходили до нас от воспитателей. Говорили, что граф Воронцов платил серебром рабочим, которые копали пруды. А ещё рассказывали, что граф давно уехал за границу, но спрятал клад в тереме между балками, и мы часто его искали под крышами. Клад мы не нашли, зато много интересного обнаружили – старые журналы, одежду, посуду и разное тряпьё, которое не представляло никакой ценности, как нам казалось тогда, а жаль. Видимо, самый большой его клад – это оазис, который он построил среди степей. Каких только деревьев и кустарников не было здесь.
Непролазные терновые заросли, акации, шиповниковые, барбарисовые и масленка (не знаю название), листья и ягоды как жемчужные были, и смородина. Боярышник, груши и яблоки росли особняком среди цветов, а дубы такие большие, что мы все в их тени умещались, а за прудами в самой низине – осины. Но самый любимый кустарник – это бузина разная. Я до сих пор готова обнять эти красивые кусты. Какая же она нарядная, мы только перед ней и фотографировались. Летом мы каждый день наряжались – плели венки из цветов, нанизывали бусы из желудей. Так как вокруг были степи, то здесь на прохладной и влажной земле скапливалось много змей и ужей. Весной ужи вылезали на дамбы погреться и ложились поперёк, получалась как бы лестница с жёлтыми фонариками. Мы очень боялись их, а ребята брали в руки, сажали за пазуху и пугали девочек.
В детском доме нас обучили вязать и шить на швейной машинке простейшие вещи. Сестра моя Тамара отлично шьёт и вяжет до сих пор салфетки, кружева, воротники. Я вышивала гладью, нитками-мулине, которых было мало. Мечта была иметь их много и разных.
Была у нас воспитательница очень красивая, а муж её, тоже красивый мужчина, преподавал в школе. Но эти два человека, ухоженные всегда, одеты нарядно, умные, влияли на нас своим поведением, и мы старались быть похожими на них. Мы её всегда ждали как награду, чтобы идти на дамбу или в дикие сады, где она читала или просто рассказывала нам про Овода, графа Монтекристо, Козетту, лётчика Водопьянова и др. От неё пахло необыкновенными духами. Сейчас я бы спросила их, что их занесло в такую глухомань.
Я не помню ни одного вечера, чтобы нам не читали на ночь. Читала нам другая воспитательница в основном про войну, нам это тоже нравилось. Сказок я почему-то не припоминаю. Воспитатели и учителя жили в основном в Серебряных прудах в домиках, которые построил уже не граф. Нас они к себе не приближали, с их детьми мы играли и всё. Это было тоже правильно, как я сейчас думаю.
Кинофильмы привозили часто, и мы собирались в столовой, там большой зал, и смотрели все подряд. Просмотренные фильмы я записывала в тетрадь, все так делали.
Мы, дети, под руководством воспитателей и учителей посадили аллею роз от терема (усадьбы) до колодца, который был далеко внизу, там было темно и полно лягушек. Когда розы цвели, мы их пересчитывали и укрывали травой, чтобы никто не рвал их из приезжих взрослых. Средний пруд из трёх был предназначен для купания, в других прудах мы не купались, они были мрачные, и в них водились бычки, которые вечером издавали звуки.
Зимой ставили длинные жерди в лёд, и мы катались по кругу на коньках, привязанных к валенкам. Санок у нас не было, мы катались на банных чашках, они были круглые и хорошо скатывались с дамбы прямо на лёд и катились почти до середины пруда.
Сторожем у нас был пожилой человек по фамилии Соломенцев. Жил он рядом с усадьбой. Соломенцев заведовал всей землей в «Серебряных прудах» и хозяйственными работами. Он не был директором детского дома, но он был – самым главным. У него было ружьё, но мы не видели, чтобы он стрелял, но зимой он уходил за дамбы, как он говорил, «по зайцы». Мы знали, что он самый главный, и доносили ему, если появится чужой на территории или ребята уходили далеко и жгли костры.
Один раз зимой мы проснулись от лая собак, посмотрели в окно, а там шли два человека с ружьями, но не к нашему корпусу, а к прудам. Мы всю ночь не спали, смотрели во все окна по кругу, где они, думали, что воры. Утром нам сказали, что это охотники из соседнего села приходили пострелять зайцев. Мы весь день вместе с мальчишками ходили по следам охотников, как следопыты. Где они останавливались, садились в копны, мы проделали весь их путь, набрали полные валенки снега и еле успели к обеду. Страх после этого исчез.
Директор из города привёз нам маленького поросёнка, и его временно поселили под веранду заднего двора дома. Мы стали все его кормить со столовой. И вот помню, уже было холодно, хотели его перевести в свинарник, но он вырос и в маленькую дверь не проходил. Это было зрелище, которое запомнилось, наверное, всем воспитанникам. Его вызволяли всем домом, пилили, выбивали кирпич, когда расширили проход до его огромных размеров, то он забился далеко в угол под веранду, и мы его ещё несколько дней выманивали оттуда.
Как и все дети, мы баловались – забирались в сад, где росли сортовые груши и яблони – их прививали и размножали. Вот этот участок охраняла баба Дора, но мы вместе с мальчишками рвали эти яблоки, набивали запазухи ими и безопасно плавали в пруду, а баба Дора бегала по берегу и грозила нам. Нам было нипочём, яблоки не тонули, мы могли держаться, сколько надо, пока она уставала и уходила. Нас никто не наказывал, но объясняли, что это сортовые, очень хорошие яблоки, которых скоро будет много. Фрукты и овощи в нашей столовой были всегда.
Помню, нам давали какао, конфеты, конфитюр, шоколад и говорили, что это из какой-то страны помощь детям, как бы сейчас сказали – гуманитарная помощь, но это было только несколько раз.
В памяти у меня остался неприятный случай, касающийся лично меня. Одна девочка – дочь учительницы подарила мне белый фартук – для меня он, если перевести на сегодня, был равноценен дорогой шубе. Я ждала праздник, чтобы надеть этот фартук. И вот наступил праздник. Мы нарядили свои спальни самодельными игрушками, выучили стихи, танцы. И то, что случилось, помню столько лет, я уже хотела надеть фартук и увидела его изорванным в полоски. Горе было огромное.
С годами я поняла, что в таких учреждениях надо дарить всем или никому. Память моя сохранила этот случай, но зла нет.
Свободного времени у нас было немного. Кружки, хор, спортивные мероприятия, походы за гербариями. С хором мы выезжали в Сталинград на праздник Победы, выступали в театре с песней Москва – Пекин и другими. Вечером был огромный костёр на площади Павших борцов. С крыши универмага стреляли из ракетниц (гостиницы «Интурист» я не помню, наверно, её тогда не было), а мы хотели схватить угасающие искры от них на асфальте.