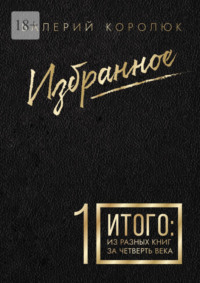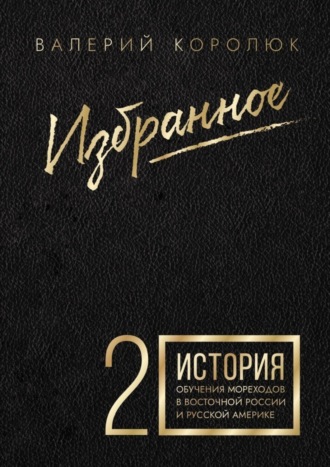
Полная версия
Избранное-2. История обучения мореходов в Восточной России и Русской Америке
В младшем классе, при крайне слабой подготовке учеников, из предметов расписания оказалось возможным заниматься только арифметикой, началами планиметрии и навигации, общей географией, морским законодательством, морской практикой, пароходной механикой, английским и русским языками, остальные предметы программы не затрагивались вовсе. В старшем классе главное внимание было обращено на практическое изучение навигации, общие сведения по лоции Японского моря и главнейшие явления общей физики и физической географии, ученики вычисляли формулы по логарифмам и тригонометрическим таблицам, определяли практически девиацию компаса и составляли ее диаграмму, делали прокладку на карте и сложное навигационное счисление, знали употребление компаса, карты, лага, лота и секстана, сличали хронометры, вычисляли широту места и начали вычислять формулу часового угла для определения долготы места, остальные предметы программы проходились согласно расписанию, которое в целом соответствовало необходимому для данных учебных заведений уровню знаний.
С первого и до последнего дня существования Александровских классов постоянно давали себя знать проблемы, связанные с отсутствием учебных пособий, собственного помещения, недостатком преподавательских кадров и скудостью финансирования.
Из учебных инструментов в 1890—1891 учебном году классы имели всего 2 секстана (1 из них был прислан из ликвидированного Тобольского мореходного класса еще в декабре 1889 г.), 14 чертежных инструментов для прокладки и 16 чертежей, учебники и учебные пособия поначалу вообще отсутствовали: «ученики классов положительно бедствуют, не имея подходящих и даже каких-нибудь учебников – школа не имеет сама их. Некоторые и готовы были бы купить, но не знают где, какие и как достать».
Из-за отсутствия учебников занятия проводились исключительно со слов преподавателей, наибольшую нагрузку несли на себе 2 штатных преподавателя (при этом оплата им за учебные часы приближалась к размерам штатных окладов), а 3 преподавателя-совместителя имели от 4 до 7 учебных часов в неделю. Позже добавились еще 2 преподавателя, но отношение их к порученному делу было небрежным. Жалобы о том, что преподаватели мореходных классов, на оплату труда которых в основном и уходили денежные средства, пропускают уроки, неоднократно расследовал сам губернатор119. На 7 учителей приходилось тогда всего 14 учеников (т.е. в среднем по 2 подопечного на каждого), из которых только у четырех-пяти наблюдалось «сознательное отношение к делу».
Практика учеников Александровских классов была организована следующим образом: весной они участвовали в снаряжении коммерческих шхун и в сборке механизмов на военных судах, в осмотре мастерских порта, с мая по октябрь находились в практическом плавании на коммерческих судах купцов Шевелева (пароходы «Байкал», «Владимир», «Стрелок» и «Новик»), Линдгольма (шхуна «Сибирь») и Федорова (речной пароход «Пионер»), при этом получали по 10 руб. жалованья в месяц на необходимые расходы. Позже ученики проходили корабельную практику также на шхуне «Лебедь» купца Старцева, ходившей с грузом между островом Путятина и населенными пунктами залива Петра Великого, и на принадлежавшей Приморскому областному правлению таможенной шхуне «Сторож», контролировавшей побережье от корейской границы до бухты Ольга.
Как сообщал глава Владивостока в ответ на запрос военного губернатора, «в Мореходные классы принимаются молодые люди, сделавшие хотя две шестимесячных морских кампании. Учат их в мореходных классах даром, живут же они все зимой на частных квартирах, а летом расписываются по русским коммерческим судам». Поскольку срок обучения в классах установлен не был, то количество и качество практического обучения, в основном, зависело от самого ученика: он мог продолжать эти занятия несколько лет подряд, а мог и получить необходимые навыки в кратчайшие сроки.
За всю 12-летнюю историю Александровских классов у них так и не появилось свое помещение: занятия по-прежнему проходили в вечернее время в здании городского училища. Почетный смотритель этого училища О. В. Линдгольм в своем отчете городской Управе за 1893 г.120 отмечал: «Некоторым стеснением служат Училищу и мореходные классы, не имеющие отдельной комнаты; – не говоря о том, что ученики их портят мебель, расход на которую покрывается из сумм, предназначенных на содержание собственно Городского Училища… классные комнаты бывают наполнены учениками более обыкновенного числа часов в сутки, именно с 9 час. утра до 6 часов вечера. При таких продолжительных занятиях во всем здании, трудно поддерживать в Училище должную опрятность и совершенно невозможно держать Училище в желаемой чистоте».
Еще через пять лет заведующий классами В. А. Панов докладывал военному губернатору Приморской области, «что со дня основания местных мореходных классов таковые по настоящее время временно помещаются, с разрешения городского управления, в здании Городского училища… Практика показала неудобство такого порядка: – здание, с утра до вечера, не проветривается должным образом, занятия приходится проводить в спертом воздухе и затем на утро сами ученики Городского Училища приходят тоже в не вполне вычищенное и проветренное помещение; затем по тесноте помещения и невозможности поставить в нем собственную классную мебель – ученики классов, уже взрослые люди, должны заниматься на тех же партах, на которых сидят малолетки и подростки; никаких классных пособий развесить нельзя, при совместном обучении в одном помещении с учениками совсем другой категории; наконец, что самое главное, послеобеденные занятия являются наиболее утомительными и неудобными для учеников и преподавателей, тогда как наилучшее, в смысле бодрости и внимания, утреннее время пропадает даром. При том же по отсутствию собственного двора никаких практических занятий на воздухе весною производить нельзя. В силу этих соображений отведение Классам собственного участка и постройка на нем собственного дома являются безусловно необходимыми».
К концу первого десятилетия существования классов все же начал решаться вопрос о предоставлении им собственного места в городе: в связи с созданием, по положению Комитета министров от 1 июля 1898 г., специальной комиссии, разграничивавшей городские и ведомственные земли Владивостока, мореходным классам был выделен участок площадью до 600 квадратных сажен на углу улиц Фонтанной и Суйфунской, однако из-за недостатка финансирования собственное помещение для них так и не было построено.
Во Владивостоке тогда имелось уже 9 учебных заведений (по краю – 72, с 2,7 тыс. учеников): женская и мужская гимназии, городское училище, Александровские классы, Портовая школа, русско-китайская школа, церковно-приходская школа и две приготовительных школы. В городе (по результатам переписи 1897 г.), из всех жителей старше 9 лет, неграмотных – 47,2%, учащихся – 679 человек. Расходы же на просвещение по Владивостоку составляли чуть больше 7% городских расходов.
Газета «Владивосток»121 сообщала тогда: «Количество учеников в местных мореходных классах значительно увеличилось за минувший год, и теперь налицо состоит 16 человек учащихся. Кроме того, несколько человек находится заграницею в плавании на разных пароходах… «учителя не посещают классов, ученики не учатся и делают что хотят, живут без надзора и влияния со стороны администрации классов», – жалуются кругом… но администрация классов не считает своим долгом, как это делают классы Либавские, Виндавские и др., блеснуть богатым процентом успешно окончивших курсы (в Либавских – половина). Ведь этак недалеко до фиктивных классов с фиктивными учениками…», после чего, попрекнув тем, что на содержание классов уже израсходована значительная сумма, газета ехидно советовала: «местные мореходные классы, из бывших воспитанников которых совсем почти не вышло капитанов и штурманов, может быть пригоднее оказались бы для создания контингента цеха владивостокских лоцманов».
На Владивостокские мореходные классы государство выделяло довольно значительные средства – 2 500 руб. в год, т.е. 5% общей суммы, отпускаемой казной на все мореходное образование в стране (около 55 тыс. руб.), так что содержание каждого воспитанника Александровских классов обходилось государственному бюджету в 5 раз дороже, чем в среднем по России.
Правда, общие расходы на них оказались вдвое меньшими, чем планировалось думской комиссией. Поначалу они не превышали 3 тыс. руб. и только со второй половины 1890-х годов стали больше этой суммы. При том регулярные денежные поступления порой доходили до 8 тыс. руб. в год, в результате чего неиспользованные средства систематически накапливались и переносились остатком на следующий год. Что неизбежно не в лучшую сторону сказывалось на материальной базе и качестве подготовки специалистов.
Кстати, через море, в соседней Японии в ту пору уже действовали 3 мореходные школы – в Токио122, Осаке и Хакодате (лучшими считались первые две) – и учебный корвет «Цкуба»123. Учеников в эти школы набирали в возрасте 14—20 лет (сдавались 4 вступительных экзамена: по чтению, письму, арифметике и географии). Занятия начинались в сентябре, на двух отделениях – морском и механическом. После годичного теоретического курса (основной метод подготовки – зубрежка) с парусными учениями 2 раза в неделю, следовала трехлетняя практика на коммерческих судах, затем – выпускной экзамен при школе, с присвоением звания 2-го помощника капитана.
Уже к началу ХХ века количество учащихся в классах возросло: «учеников в Александровских мореходных классах около 35 человек, принимаются без конкурса и без экзамена, платы за учение нет, в 1900 г. выпущены 8 штурманов каботажного плавания». А в последний год своего существования они имели следующий вид:
«Александровские мореходные классы.
Занятия производятся в помещении владивостокского городского училища по вечерам; 2 класса; проходят русский язык, английский (руковод. Нурок, преподав. г. Газе), математику, арифметику (руководство Малинина), геометрию (руковод. Вулиха), прямолинейную и сферическую тригонометрию (руковод. Дмитриева), начатки алгебры (до уравнения с 1 неизвестным), навигацию (руковод. Лукина, Зыбина, преподават. штурман г. Михельсон), астрономию, морскую практику – лоцию морской картографии (руковод. Вахтина), пароходную механику (преподав. г. Фогт), законоведение – торговое право (руковод. Струкова).
Прошения о приеме в число слушателей подаются в августе на имя заведующего классами В. А. Панова, с приложением документов: метрики о рождении, свидетельства о привитии предохранительной оспы; число учащихся около 35 человек; чтобы быть допущенным к экзамену, необходимо иметь 21 год от роду, удостоверение о плавании: для получения звания штурмана дальнего124 плавания – за 16 месяцев, для звания штурмана дальнего плавания – за 24 месяца; желающие держать экзамен на звание шкипера дальнего плавания должны представить удостоверение о плавании в течение 1 года в звании штурмана дальнего плавания и сдать дополнительный экзамен из астрономии. До сих пор принимали подававших прошения без конкурса и без всякого экзамена; в будущем предполагается подвергать вступающих поверочному испытанию в объеме курса прогимназии без древних и новых языков. Платы за учение нет.»
Появились в классах в небольшом количестве и учебные пособия: «Навигация и Мореходная Астрономия» Зыбина, «Мореходные Таблицы Морского Министерства», «Геометрия» Давыдова, «Плоская и сферическая тригонометрия» Дмитриева, «Арифметика» Малинина и Буренина, «Учебник английского языка» Нурока, но по прежнему «остальные предметы: алгебра, лоция, морская практика и русский язык проходятся со слов преподавателя, без определенных учебников; также и мореходная механика».
Штатными преподавателями в классах оставались В. А. Панов (вел «Навигацию, Мореходную астрономию, Тригонометрию и Лоцию») и А. А. Де-Шей (вел «Навигацию, Морскую практику, Лоцию и Геометрию»), остальные – надворный советник Константин Николаевич Кулакович (преподаватель городского училища), учивший мореходов «Арифметике, Алгебре и Русскому языку», не имеющий чина преподаватель английского языка в мужской гимназии Иван Николаевич Газе, Д. И. Дюков, Н. А. Иванцов и механик, штурман дальнего плавания, полковник запаса Николай Андреевич Фохт – числились вольнонаемными. Панов получал в год 900 руб. штатного жалованья и 300 руб. «квартирных», Де-Шей – 700 руб «без разделения на жалованье, столовые и квартирные», остальные – по 1 руб. 75 коп. за каждый урок.
Однако, как отмечалось потом в отчете Владивостокского Морского общества, «дело было сделано, но слишком поздно. Чего опасался контр-адмирал Эрдман, то и случилось: ближайшие прибрежные воды стали ареной китайских мореходов, запестрели иностранные флаги в крупном каботаже и наш край попал в цепкие лапы иностранцев. Мореходный класс ежегодно выпускал и увеличивал кадр безработных судоводителей, ибо им негде было применить свои познания при существующем положении вещей». Таким образом, 14-летняя задержка с открытием собственной мореходной школы и последующие недостатки в ее функционировании привели к тому, что иностранное засилье получило возможность препятствовать развитию российского судоходства в дальневосточных морях.
2. Создание и деятельность «Испытательных комиссий»
во Владивостоке (с 1879 г.), в Благовещенске, Сретенске и Хабаровске (с 1886 г.), в Николаевске-на-Амуре.
Напомню, что, в соответствии с «Правилами о порядке признания шкиперов и штурманов в сих званиях» и «Правилами для производства испытаний на звание шкипера и штурмана» от 27 июня 1867 г., экзаменационные комиссии создавались при мореходных училищах или в ближайших портовых городах по всей стране. Председательствовать в них должны были инспекторы мореходных училищ или представители портовых управлений, а членами становились начальники училищ, преподаватели соответствующих предметов, опытные шкиперы, морские офицеры и члены попечительных комитетов.
Деятельность мореходных классов и правительственных комиссий следует рассматривать в комплексе, несмотря на то, что появлялись они с некоторой разницей во времени.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Барбашев Н. И. К истории мореходного образования в России. М.: АН СССР, 1959.
2
Колотов Н. А. История морского образования на Дальнем Востоке. М.: Морской транспорт, 1962; Колотов Н. А. Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г. И. Невельского (Краткий очерк). Владивосток: Дальиздат, 1977.
3
Её можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/i/HdQC5WzekQfJx?fbclid=IwAR1jDwKDQobCo34CDTK09HZzsPdM2NP38SlXUdSCSy-rP2QBJd4RtCX2R2E
4
Под руководством известного мореплавателя и математика Марко Мартиновича они прошли курс обучения в Венецианской морской академии и в школе «Наутика» (Пераст).
5
По другим источникам, было отправлено 70 человек.
6
В 1708 г. была создана Сибирская губерния с центром в Тобольске, включавшая уральскую часть европейской России и все сибирские и дальневосточные земли. В 1719 г. ее разделили на Иркутскую (которая в 1764 г. стала отдельной губернией, включавшей Иркутский, Илимский, Селенгинский, Нерчинский, Охотский и Якутский уезды), Енисейскую, Тобольскую, Соликамскую и Вятскую провинции.
7
В Охотск из них попадет позже один только И. Б. Бирев.
8
С легкой руки А. Сгибнева (после 1866 г.).
9
Проводившей 8-ю отрядами исследования Арктики, Камчатки, Америки и прилегающих островов в 1733—1743 гг.
10
Здесь явно «питерская» опечатка (слово, производное от Охты, окраины Санкт-Петербурга), правильно: Охотской.
11
1838 г.
12
Тем более, что для местных начальников продолжать в течение последующего целого десятилетия игнорировать прямую волю императрицы тогда вряд ли было возможно.
13
По Сенатскому Указу от 18 сентября 1765 г.
14
Девиер Антон Мануйлович (Эммануилович, Михайлович) – бывший португальский еврей, начинавший юнгой в голландском флоте и выросший при Петре I от царского денщика до графа, генерал-лейтенанта и обер-полициймейстера Санкт-Петербурга, а при Петре II лишенный чинов и званий и отправленный в ссылку за участие в том же заговоре (против Меньшикова), что и Скорняков-Писарев.
15
Указ о том поступил в Охотск только 26 июня 1742 г.
16
С июля 1743 г.
17
Преподавал в школе с 1753 г. по первую половину 1756 г.
18
Этот бывший моряк, уволенный с флота по болезни в звании контр-адмирала в 1743 г., еще во время службы в Архангельске открыл в Соломбале адмиралтейскую школу, так что дело морского образования ему было близко и знакомо.
19
1753—1765 гг.
20
Соймонов Федор Иванович (1692—1780 гг.) – выпускник московской навигацкой школы 1711 г., сподвижник Петра Великого, мореплаватель, гидрограф и картограф, обер-прокурор Сената, вице-президент Адмиралтейств-коллегии, отбывал (по делу А. П. Волынского «с конфидентами») в 1740—1742 гг. ссылку в Охотске на солеваренном заводе (также помилован императрицей Елизаветой), в дальнейшем – сибирский губернатор (1757—1763 гг.), сенатор (1763—1766 гг.), действительный тайный советник.
21
С ним прибыли учитель навигации прапорщик Афанасий Семыгин и учитель геодезии Юсупов; по другой информации, Семыкин по дороге к месту назначения умер, а поручик Юсупов (Исупов) был отправлен Адмиралтейств-коллегией в Нерчинск через Иркутск позже, в 1756 г., с жалованьем 180 руб. в год.
22
По Указу Сената от 28 декабря 1753 г.
23
Руководил Иркутской школой в 1765—1770 гг.
24
Руководил Иркутской школой в 1756—1765 и 1770—1784 гг., управлял также адмиралтейской частью в Иркутске. «Он внес, пожалуй, наибольший вклад в развитие школы. При нем школа достигла наивысшего расцвета. Татаринов провел реорганизацию методики обучения: распределил время по классам, увеличил число учителей, ввел преподавание грамматики и иностранных языков». «О штурмане М. Татаринове известно, что он в службу вступил в 1739 г. штурманским учеником, в 1744 г. был произведен в штурманы. Состоял при С. И. Мордвинове при описи Балтийского моря. В начале марта 1754 г. в Морском шляхетном кадетском корпусе под руководством А. И. Нагаева участвовал в копировании карт Второй камчатской экспедиции. 3 марта того же года Татаринов указом Сената был командирован в Тобольск на строительство „ластовых“ (весельных) судов для будущей Нерчинской экспедиции. В январе 1754 г. В. А. Мятлев вызвал его в Иркутск и назначил преподавателем навигацкой школы, куда Татаринов прибыл с пятью учениками старших классов Тобольской геодезической школы. С 1756 г., находясь на посту директора, он приложил много усилий, чтобы улучшить качество получаемого в школе образования, не скупился на денежные поощрения и производство в унтер-офицеры и офицеры хорошо учившихся учеников… 27 февраля 1776 г. за успехи в обучении Татаринову присвоили чин секунд-майора. За 29 лет своего подвижнического труда он сделал пять выпусков штурманов и геодезистов… После смерти М. Татаринова 18 июля 1784 г., школа постепенно пришла в упадок».
25
Первый набор составил 32 человека.
26
Казенный солдатский мундир, кафтан, камзол, 2 шляпы с галуном, 1 лосиные штаны – на 4 года, по паре рубашек и чулок на год.
27
Учащимся арифметике – 1 руб., геометрии и тригонометрии – 1,5 руб., плоской и меркаторской навигации, сферике, астрономии и географии – 2,25 руб., круглой навигации и геодезии – 3 руб. в месяц каждому, «а из оного жалованья вычитать на медикаменты по копейке с рубля, и за инструменты в арифметике по 3, в геометрии и тригонометрии по 5, а в навигациях по 12 копеек у человека от месяца». Указом правительствующего Сената от 17.07.1758 г. жалованье было увеличено до 6 руб. в месяц.
28
По 2 коп. в день на пропитание (пуд пшеничной муки стоил тогда в Иркутске 17—20 коп., ржаной – 8 коп., сахара – до 20 руб.).
29
О школе и учениках не заботился и был возвращен в Иркутск, под личный присмотр вице-губернатора, 2 сентября 1760 г. по приказу Ф. И. Соймонова «за пьянство и распутство» был отстранен от должности и отправлен в Тобольск.
30
17 июня 1765 г. Нерчинская экспедиция перестала существовать.
31
Ибо «В Западной Сибири существовали геодезические школы, близкие по своей программе к навигацким. В 1758 г. такая школа была открыта в Тобольске, а несколько позже – в Томске»
32
«В 1787 г. иркутский и колыванский генерал-губернатор Якобий писал в Сенат, что со смертью в 1783 г. майора Татаринова подготовка морских штурманов в Иркутской навигацкой школе прекращена из-за отсутствия других квалифицированных преподавателей». «После смерти М. Татаринова (18 июля 1784 г.) руководителем школы был назначен секунд-майор граф Сойка, губернский землемер (1784—1785). Но он быстро отошел от дел и передал учеников начальнику Иркутского адмиралтейства лейтенанту Юрлову (1785—1791), который был стар, и после его кончины (29 сентября 1791 г.) для школы долго не могли найти руководителя. Поэтому дела учеников пришли в совершенный упадок. Учителями в 70-80-е гг. были разные специалисты. В 1772 г. одним из преподавателей был известный исследователь сибирских земель, выпускник, предположительно, Нерчинской школы навигации штурман в ранге прапорщика Алексей Пушкарев. Имеются свидетельства, что в 80-е гг. с оставшимися 45 учениками-геодезистами занимался губернский землемер Илья Протопопов».
33
Открытому в 1787 г., по Уставу о народных училищах от 1786 г.
34
Через 10 лет учащиеся (вместе с имуществом навигацкой школы) были переведены в открывшуюся в июне 1805 г. Иркутскую губернскую мужскую гимназию, в классы чертежные и геодезические.
35
По др. инф., «окончательно школа навигации и геодезии перестала существовать в 1835 г.».
36
«По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, Иркутской навигацкой школой было выпущено: в 1758 г. – 11 человек, из которых 5 назначены штурманами на суда в Охотск, а остальные – геодезистами в Тобольск; в 1759 г. – 32 человека, из них 11 распределились на суда в Охотск, один – для описи рек Мая и Алдан, 15 – в распоряжение Нерчинского заводоуправления, 3 – геодезистами и 2 – для последующего обучения японскому языку; в 1768 г. (совместный выпуск с Нерчинской навигацкой школой) – 84 человека, из них 6 лучших учеников были направлены в экспедицию П. К. Креницына 16 – подштурманами на суда в Охотск, 15 – в горные инженеры, 5 – в подмастерья „ластовых“ судов, 36 – в распоряжение Нерчинского горного ведомства, 6 – геодезистами в Охотск и Анадырск, 1 – для последующего обучения японскому языку и 1 – в медицинские чины. Кроме того, „за непонятие наук“ 23 человека были отправлены в карабинеры и 28 „за нерадивость“ – в казаки; в 1771 г. все 10 учеников получили назначения на суда в Кронштадт; в 1772 г. 10 учеников также направлены в Кронштадт, где после дополнительного обучения в Штурманской роте 7 человек стали геодезистами, 3 – штурманами на судах в Охотске, 3 – подштурманами, 3 – штурманскими учениками и 2 человека назначены на суда Российско-Американской компании».
37
Где произведен в адмиралы.
38
«Обучал школьников рисованию карт» в 1770—1774 гг.
39
Зубов Савва Ильич (1746-?) – 10.04.1764 г. окончил (16.01.1761 г. поступил) Морской шляхетский кадетский корпус с производством в гардемарины; 1.05.1766 г. – мичман; 12.03.1770 г. – лейтенант, участвовал в описи рек Дунай, Днепр и Днестр. 24.12.1773 г. уволен от службы с производством в капитан-лейтенанты. 3.12.1774 г. Адмиралтейств-коллегией назначен командиром Охотского порта, 5.08.1775 г. утвержден в этой должности Указом Сената. 6.09.1775 г. прибыл из Петербурга в Охотск и вступил в должность (принял дела у полковника В. Зубрицкого). Провел первую перепись населения и доходов Охотского края, организовал несколько экспедиций к Курильским и Алеутским островам. Автор проекта об открытии торговли с Японией. 15.04.1779 г. вызван в Иркутск и 10.02.1781 г. по многочисленным доносам («Вероятно, в Охотске климат такой, что все там ссорятся», – сетовал десятком лет ранее сибирский губернатор Д. И. Чичерин) отдан под суд, помилован по манифесту от 7.08.1782 г. и определен на гражданскую службу в Иркутской губернии.