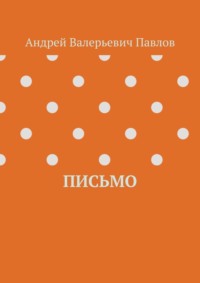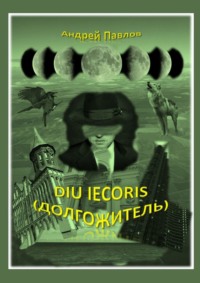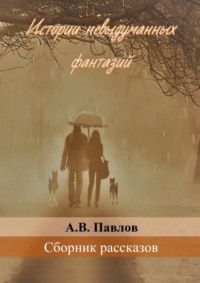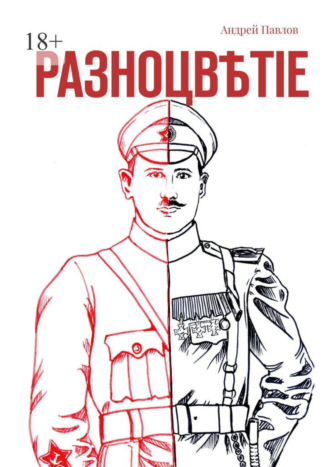
Полная версия
Разноцвѣтіе
Это был мой способ определить, насколько человек, которому ты собираешься доверять, откровенен с тобой: сначала вывести его на душевный разговор, потом «зацепить струнки» ответственности, а потом поставить его в узкие рамки двоякого развития событий: или – или! Отведет взгляд, замямлит – все, не тот человек, кому можно доверять. Не дрогнет, будет смотреть прямо – возьми паузу, не отрекай его от себя, подожди. Может, он – тот, кто тебе нужен.
Полковник Давыдов глаз не отвел, но в них я прочитал такую тоску, что мне стало немного не по себе… Я увидел в нем ЧЕЛОВЕКА, который знает, что его ждет, и, несмотря на это, не отступит от СУДЬБЫ, будет верен ей до конца, так же, как и останется верен он Вере, Царю и Отечеству в те тяжелые августовские дни 1914 года, когда он в ходе Первой мировой войны в должности начальника штаба 8-й пехотной дивизии 15-го армейского корпуса в боях в Восточной Пруссии будет окружен противником в Коммусинском лесу и погибнет при попытке прорыва из окружения…
И генерал от кавалерии А. В. Самсонов, командующий 2-й армией, также не доживет до конца войны и покинет этот мир. По одним источникам, не выдержав психологического давления из-за неудач на фронте во время Восточно-Прусской операции после поражения при Танненберге 17 августа 1914 года он покончит с собой в Вилленберг, по другим – погибнет от разрыва снаряда. Его подчиненные не смогут найти тело командира, и только через год его супруга, Екатерина Александровна, в сопровождении немецкого офицера, после нескольких дней опроса местных крестьян, узнает, что в конце лета 1914 года в лесу случайно был найден труп русского офицера. Впоследствии подтвердилось, что это был ее муж. Тело эксгумировали и транзитом через Швецию и Петроград доставили в конце ноября 1915 года в родовое имение Самсоновых, село Егоровка Елисаветградской губернии, где и захоронили…
* * *Обратная моя поездка не предвещала ничего необычного, но все же это произошло. По прибытии в Оренбург на железнодорожном вокзале я получил срочную депешу из Генерального штаба, по которой мне предписывалось немедля прибыть в деревню Бородино Московской губернии для контроля готовности к празднованию 100-летия со дня Бородинского сражения.
На Бородинском поле заблаговременно были организованы значительные работы по восстановлению некоторых военных сооружений столетней давности и приведению в образцовый порядок исторических памятников и монументов не только русским, но и французским воинам. От станции Бородино для императорского поезда к месту празднования протянули железнодорожную ветку и построили специальный павильон. Из-за постоянных дождей была опасность не успеть завершить все приготовления, поэтому для объективной оценки меня туда и направили…
В ожидании замены паровоза в нашем эшелоне я решил прогуляться по железнодорожному вокзалу Оренбурга и Привокзальной площади. Стояла теплая погода, и в этот день жители также совершали вечерний променад по городу. Недалеко от меня остановился экипаж, и из него вышла милая девушка лет восемнадцати, по внешнему виду очень похожая на выпускницу духовной семинарии (как потом действительно оказалось – выпускницей Оренбургской духовной семинарии), которая направилась в здание вокзала.
Я проследовал за ней, так как площадь уже достаточно осмотрел. Она пошла к кассам, а я стал знакомиться с достопримечательностями внутреннего убранства. Через некоторое время я вновь увидел ее, грустно стоявшую рядом с кассой.
– У Вас что—то случилось, сестра? – обратился я к ней.
– Нет, что Вы, господин офицер, – ответила она мне, – все нормально, только вот билетов до Москвы нет, а мне очень туда надобно…
Ее голос меня поразил – тихий и одновременно глубокий, идущий из самого сердца ее обладательницы и завораживающий сердце слушателя. Я еще раз посмотрел на нее, более внимательно. Красивые, слегка раскосые зеленые глаза, чуть с горбинкой нос, придающий некий шарм ее внешности, тонкие бледно-розовые губы и правильный овал лица были украшены рыжими стянутыми в узел длинными волосами. У меня моментально созрел план: «штабное» купе – рабочий кабинет – мне уже не нужно, так почему бы не пригласить милую девушку к себе в вагон?! И я ей предложил такой вариант.
– Что Вы, господин офицер! Как можно?! Я ведь всего лишь послушница и собираюсь принять монашеский постриг, а Вы уже в больших чинах и едете по служебному делу…
– Как послушница? – я был несколько растерян и смущен… – Так куда Вы следуете?
– В Спасо-Бородинский Женский Монастырь, близ деревни Бородино. Еду туда по приглашению преподобной Рахиль, – ответила мне девушка.
– Какое совпадение! Я только сегодня получил указание ехать туда же, на Бородинское поле, чтобы оценить степень готовности к торжествам! Теперь Вы просто обязаны согласиться на мое предложение, иначе я вызову на дуэль начальника станции и под угрозой смерти он достанет Вам билеты в Москву!
– Не надо, я согласна! – вскрикнула девушка в испуге и перекрестилась, но, увидев мое улыбающееся лицо, густо покраснела, улыбнулась сама и отвернулась от меня.
– Позвольте Ваши вещи, – ответил я и взял ее небольшой саквояж. – Это все? – поинтересовался я.
– А нам много и не надо, с нами Бог, – ответила моя новая знакомая, будущая попутчица.
– Я забыл представиться, – опомнился я. – Генерального штаба штабс-капитан Черневский Алексей Валерьевич, тридцати лет отроду будет 1 октября этого года, холост.
Последнее слово в моей речи смутило сначала ее, а потом и меня. «Холост»! К чему это я ляпнул?..
– Очень приятно, а мое имя Варвара. Варвара Кусайлова, выпускница Оренбургской духовной семинарии этого года, в апреле оного отпраздновала свое девятнадцатилетие, не замужем, – ее взгляд метнул на меня быструю молнию, и тут же она еще гуще покраснела, – да и не суждено уже…
Чтобы как-то отвлечься от темы, я предложил ей пройти в мой вагон, разместиться, отдохнуть после всех приключений и встретиться за ужином в хозяйственном купе, где мои помощники смогут организовать неплохой стол. Она смущенно кивнула головой – на этом и порешили.
* * *Вагон, размеренно покачиваясь на своих рессорах, плавно мчался в сторону Москвы. Его колеса еле слышно отбивали чечетку на стыках рельс, а мы с Варварой, завершая ужин ароматным кофе, вели неспешный разговор.
Ее отец, Даниил Кусайлов, пошел добровольцем на войну с Японией. В своем рапорте на имя генерал-губернатора Оренбурга он написал: «Считая себя защитником нашей Родины, к чести Российского Отечества категорично полагаю, что мое место сегодня на Дальнем Востоке, в рядах Русской императорской армии». Ушел на фронт и погиб в битве при Мукдене в начале марта 1905 года. Матушка Варвары, Ефросинья Поликарповна, очень переживала смерть мужа, слегла в конце весны того же года с воспалением легких, так и не оправившись, отдала душу Богу аккурат 29 июня – в день Святых апостолов Петра и Павла. Варвара была самой младшей в семье, старшие братья и сестры уже разъехались и обустроились в России, вот 12-летнюю девочку и отдали в духовную семинарию, чтобы там под присмотром священнослужителей она и получила образование.
– Тяжело было, – рассказывала Варвара. – Я же понимала, что мне надеяться больше не на кого, кроме как на себя и Бога. Вот в нем спасение и душевное равновесие я и нашла.
– А как же братья и сестры?! – воскликнул я.
– А что они… Бог им судья, да долгих лет жизни, – вздохнула Варвара и повернулась к окну, за которым мелькали деревья и телеграфные столбы.
Я тоже замолчал. Мне стало безумно жаль эту маленькую девочку, которая в такие ранние годы осталась наедине сама с собой, отреклась от мирского бытия и согласилась посвятить всю оставшуюся жизнь служению Богу. Прошло не менее пяти минут, как заговорила она.
– А как складывается Ваша жизнь, Алексей Валерьевич?
Я кратко рассказал о себе, все больше пытаясь вытащить ее на разговор. Но она будто бы замкнулась в себе, спряталась, как еж или улитка.
– Как Вы относитесь к поэзии, Варвара Данииловна? – спросил я попутчицу.
– Весьма положительно, – ответила она.
– И кого Вы предпочитаете?
– Когда была маленькой, мама мне часто читала Пушкина, а вот уже повзрослев, я люблю читать разных поэтов, в зависимости от настроения.
– А какому произведению соответствует Ваше настроение сейчас? – поинтересовался я.
Немного подумав, она прочла:
«Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо.Вечность лишь изредка блещет зарницами.Время порывисто дует в лицо.Годы несутся огромными птицамиКлочья тумана вблизи… вдалеке…Быстро текут очертанья.Лампу Психеи несу я в руке —Синее пламя познанья.В безднах скрывается новое дно.Формы и мысли смесились.Все мы уж умерли где—то давно…Все мы еще не родились».– Чьи это стихи? – спросил я, немного помолчав.
– Максимилиана Александровича Волошина, – ответила она.
– Не слышал никогда, – признался я.
– А Вы, Алексей Валерьевич, любите стихи?
– Да, – коротко ответил я. – Но, к сожалению, особенности службы моей и уклад жизни не позволяет на них сосредоточиться, – виновато признался я.
– Ну, что Вы, – укоризненно посмотрела на меня собеседница. – Ваша служба – лишь один из этапов жизни, придет время, и вы уйдете в отставку, а жизнь продолжится, вот тогда нужно будет восполнять те пробелы, которые образовались у Вас в жизни. Поэтому чем раньше Вы этим займетесь, тем мудрее станете.
– А Ваша служба – не временна? – спросил я Варвару Данииловну.
– Нет. Я для себя все решила, – сухо ответила она мне.
– Но Вы же так молоды и прекрасны, зачем ставить себя в жесткие рамки и губить свою жизнь аскетизмом? – в порыве спросил я.
Она посмотрела на меня глазами, полными боли и отчаяния.
– Поздно уже, Алексей Валерьевич, давайте продолжим наш разговор завтра…
Я проводил ее до предназначенного купе, откланялся, пожелал спокойной ночи и удалился в свое. В ту ночь я долго не мог заснуть и думал о Варваре…
* * *На следующий день мы встретились ближе к обеду, когда наш поезд остановился в Пензе для очередной смены паровоза и заправки вагонов. Прогуливаясь по вокзалу, Варвара попросила меня рассказать о Русско-японской войне, в которой погиб ее отец, и о том, что, на мой взгляд, ждет Россию в ближайшем будущем. Я ей сразу ответил: о том, что случилось на Дальнем Востоке, я смогу рассказать с ограничениями и учетом служебной закрытости информации, а о том, что будет, – это мое личное мнение, не вполне связанное с моей специальностью.
– Вот Вы зануда, – весело смеясь, ответила мне она. – Ну, конечно, мне не нужны Ваши секреты, но нужно Ваше мнение, Ваш взгляд на то, что происходило, происходит и, возможно, будет происходить.
– Что же произошло на Дальнем Востоке? – начал я делиться своими мыслями. – Мы не рассматривали этот регион как основной театр военных действий, не развивали его инфраструктуру, не готовились к таким продолжительным срокам ведения войны, не учились быстро перебрасывать войска на большие расстояния, не развивали тяжелую артиллерию, связь и способы действий в тяжелых климатических условиях Дальнего Востока. Кроме того, войну, грубо говоря, «проспали» наши политики. Ну, а реальные причины наших неудач там нам сможет раскрыть только время и секретные архивы, – подытожил начало своей речи я. – Вы не скучаете? – заволновался я.
– Нет, что Вы! – воскликнула Варвара. – Весьма интересно. Я, конечно, не ждала услышать причины гибели моего отца, но почему с этой войны не вернулись сотни тысяч российских подданных, а еще больше оказались покалеченными, я теперь немного понимаю. У нас в семинарии не принято было обсуждать эти вопросы. Мы только молились за души погибших и здоровье уцелевших. Пожалуйста, продолжайте, – сказала моя спутница.
– Как мне видится, – продолжил я, – Россия успела, так сказать, залечить свои раны после этой войны и сделала значительный шаг вперед в рамках укрепления военной мощи. В нашей армии улучшилось обучение личного состава, расширились боевые возможности войск и флота, командиры всех степеней, от военного министра до отделенного, начали гибче смотреть на них, практике стало уделяться значительное время, и в первую очередь – роли огня, пулеметов, связи артиллерии с пехотой, индивидуальному обучениию каждого бойца, подготовке младшего командного состава и воспитанию подразделений в атмосфере активных и решительных действий.
– По моему мнению, – уже в вагоне, за обедом, рассуждал я, – очевидно, что вопрос о большой европейской войне решен бесповоротно и окончательно. И эта война станет самой губительной и бесчеловечной в этом веке. В ней могут и будут использованы самые современные средства уничтожения людей. Неясно пока только то, кто составит коалиции противоборствующих сторон и когда именно она начнется. То, что эта война не будет войной двух государств – это точно.
– Это очень страшно, – молвила моя собеседница и отложила в сторону обеденные приборы. – Я знаю, откуда берутся войны, в Святом писании сказано: «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» То есть, жажда власти, наживы, превосходства над другими, алчность и бессердечие причинами их являются. Но войны же начинают конкретные люди! А этих людей рожают конкретные матери, которые обязаны были воспитать в своих чадах добродетель и человеколюбие. Но они этого не сделали. Матери виновны в войнах и больше всего страдают от них, когда гибнут в них же их сыновья, мужья, отцы…
Я был немного озадачен таким выводом, и дальнейшая наша трапеза прошла в молчаливых размышлениях.
Наш путь проходил по Сызрано-Вяземской железной дороге, которая позволяла, минуя Москву, прибыть в Бородино. Оставшиеся дни мы с Варварой Данииловной проводили в беседах об искусстве, ее обучении в семинарии и моем – в военных учебных заведениях, что позволило нам достаточно сблизиться. Но все кончается, кончилось и наше путешествие. На железнодорожной станции в Можайске ее встречали сестры из монастыря.
– Прощайте, Алексей Валерьевич. Спасибо Вам за доброту Вашу и внимание. Вы – единственный и последний мужчина для меня в этом грешном миру, с которым мне было хорошо, довелось так откровенно и интересно общаться. Не поминайте лихом и храни Вас Господь, – сказала мне она и перекрестила. Мне показалась, что по ее щеке текла слеза… А я стоял и смотрел, как ее фигура уходила вдаль и растворялась в вечернем воздухе этой благородной земли…
Я в своей жизни встречал и общался со многими женщинами, но именно эти несколько дней врезались в мою память и сердце навсегда. Это была МОЯ судьба, МОЯ женщина, но я не смог убедить в этом ни ее, ни себя…
Как показало время, это было правильным, ибо те пертурбации, которые выпали на мою долю, могли бы сделать ее несчастной. А теперь, глядя на все произошедшее сквозь годы, я понимаю, что, став на мгновенье несчастным, ты на всю жизнь можешь остаться счастливым…
* * *Свои служебные вопросы в Бородино я решил быстро. Изучив положение дел и лично переговорив с генералом от инфантерии, членом Военного совета Российской Империи и председателем Военно-исторического общества Владимиром Гавриловичем Глазовым, ответственным за подготовку и проведение юбилейных торжеств, я пришел к твердому убеждению, что все идет без помарок и предпосылок к срыву.
– Ваше высокопревосходительство! – отрапортовал я Глазову. – Имею честь заверить Вас, что в моем докладе начальнику Генерального штаба Российской Империи будет отражен весь положительный опыт хода подготовки к такому эпохальному событию, как 100-летний юбилей победы Российской армии над Наполеоном.
– Полноте, Черневский. Начальник Генерального штаба осведомлен о всем ходе подготовки к празднествам. Но, впрочем, взгляд со стороны, свежий и объективный, никогда не был помехой делу. Ступайте, – закончил он наше общение.
Генерал Глазов, один из самых разносторонних военно-политических деятелей России, окончивший Константиновский межевой институт, 3-е военное Александровское училище, Академию Генерального штаба и Императорский Петербургский археологический институт, станет начальником Николаевской Академии Генерального штаба, возглавит управление Министерством народного просвещения, вернется на военную службу, которую закончит в 1918 году, будучи уволенным в отставку, останется в России и умрет в Петрограде в 1920 году в возрасте 72 лет…
Со спокойной душой почти через 1,5 месяца с небольшим я возвращался в ставший для меня родным Санкт-Петербург. А юбилей Бородинского сражения прошел на славу! По итогам моих специальных заданий и к вышеназванному юбилею я был представлен и награжден Императорским орденом Святой Анны III степени без мечей. Наличие мечей говорило об участии в боевых действиях, а мне в таковых еще не пришлось участвовать.

Родовое имение Черневских. 1913 год.
После долгих скитаний по России по служебной необходимости я все же получил долгожданный отпуск и убыл в конце декабря к себе на родину, в Борисоглебск. К этому времени стараниями моих братьев и сестер, а также моих скромных вложений нам удалось построить фамильный дом. Отец, уже достаточно больной (сказывались военные раны и работа на пристани), и матушка были очень довольны тем, что теперь мы можем собираться всей семьей в большом доме, который должен был стать нашим родовым гнездом. Увы, этим мечтам не суждено было сбыться, лихие годы приведут к полному его разрушению…
Но отдых мой с семьей оказался краток. Предстоял очередной юбилей – 300-летие Дома Романовых. В начале января по указанию начальника Генерального штаба я убыл в Москву, чтобы оказать помощь офицерам штаба Московского военного округа в организации ряда обеспечивающих празднование дел. Сами торжества начались 21 февраля, были приурочены к дате «единодушного избрания» на царство в Москве Великим земским собором «в 21 день февраля 1613 года» боярина Михаила Федоровича Романова и продолжались практически всю весну 1913 года. Вследствие моего скромного участия в подготовке данных торжеств я был награжден юбилейной медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых».
Парадоксально, но за столько времени военной службы я впервые надолго оказался в Москве. И, как многие жители Санкт—Петербурга, я к ней был равнодушен. Бесспорно, величие Московского кремля, легендарность многих ее улиц, сам факт восстановления многовековой столицы нашего государства после стольких бед, заслуживает уважения, но… Не лежала у меня к ней душа, хоть стреляйся! Москва никогда не отличалась стабильностью: во все годы своего существования обычным делом считалось переименование улиц по поводу и без. Так и перед празднованием 300-летия Дома Романовых было переименовано почти 100 переулков, улиц и шоссе. Пройдут годы, и история будет повторяться с завидным постоянством: каждому градоначальнику – свои имена…
– Как вы не поймете, Алексей Валерьевич, что будущее – за Москвой, – убеждал меня старший адъютант штаба Московского военного округа полковник К. К. Черный во время нашего совместного ужина, посвященного окончанию подготовки к празднествам.
– Москва – центр всей России, сюда будут стекаться все финансовые потоки нашего государства и его партнеров, а раз тут будут деньги, то и правительство, Государственная дума, другие государственные организации дислоцируются сейчас и будут дислоцироваться в будущем в ней, Матушке-кормилице. А в Петербург будут ездить полюбоваться его красотой – не более.
– Может быть, Константин Константинович, я не отрицаю такого развития событий, но все же, по моему мнению – культура и политика должны быть вместе неразрывно, иначе эти политики, государственные деятели и иже с ними забудут, для чего они исполняют свои обязанности, – ответил я ему. И мы продолжили трапезу, оставшись каждый при своем мнении.
Через несколько лет, уже будучи генерал-майором и пройдя Первую мировую войну, К. К. Черный примкнет к Белому движению, став Главнокомандующим вооруженными силами Кубанского края, в начале 1918 года уйдет в отставку, эмигрирует в Италию, где станет председателем русской колонии на севере страны и умрет в Милане в 1934 году в возрасте 63 лет…
В феврале этого же года я был произведен в чин подполковника и сразу же награжден Императорским орденом Святого равноапостольного князя Владимира
III степени, также без мечей.
– Будут у Вас, Черневский, и с мечами ордена, – сказал мне генерал Г. Н. Данилов, вручая «Владимира».
– Бесспорно, с мечами – это почетно. Но лучше бы без таких отличий, без войны, – ответил я.
– Без войны мы никому не нужны, подполковник, – сухо возразил мне Данилов-черный, как его называли за глаза в армии, чтобы не путать с однофамильцами.
Его дальнейшая судьба будет неразрывно связана с войной. Он станет одним из немногих значительных военачальников, генералом от инфантерии, которые после Октябрьского переворота 1917 года успеет послужить и у красных, ведя переговоры в 1918 году в Брест-Литовске о заключении мира с Германией, и у белых, где он окажется после ухода в отставку в конце марта 1918 года и переезда на Украину. Там он перейдет в расположение Добровольческой армии, а затем эмигрирует в Константинополь, будет жить и умрет в начале февраля 1937 года в Париже, став автором многих военно-исторических трудов, посвященных участию русской армии в Первой мировой войне, и биографом Великого князя Николая Николаевича…
* * *То, что до начала общеевропейской, а может, и мировой (как впоследствии и оказалось) войны оставалось совсем немного времени, понимали не только политики, но и военные. Балканские войны 1912—1913 годов показали, что основная проблема лежит именно там, где сплелись противоречия различных государств с разнообразным укладом жизни. Например, Германия, самая передовая страна того времени в плане милитаризации всех отраслей, активно готовилась к предстоящей войне, учитывая самый передовой опыт ее ведения. Ее Генеральный штаб выпустил специальный сборник, в котором излагались события прошедшей Балканской войны, анализировались уроки ее подготовки и ведения, по которым делались выводы по вопросам оперативной и тактической сторон действий войск. В нашем Генеральном штабе такие попытки также были сделаны, но остановились на уровне руководства, а большинство офицеров действующей армии не знали не только хода боевых действий, но их итогов.
Вместе с тем, отсталость нашей армии, а также напряженная международная обстановка не оставляла Совету министров Российской Империи шансов отказаться от увеличения затрат на армию и флот. 6 марта 1913 года Император Николай II, изучив программу развития и реорганизации войск, дал указания на увеличение бюджета военного ведомства.
Военный министр генерал В. А. Сухомлинов, как никто понимающий всю опасность промедления в подготовке к войне, 13 июля 1913 года представит в Государственную думу IV созыва, последнюю думу Российской Империи, так называемую «Малую программу», по которой за 5 лет к исходу 1917 года планировалось истратить значительные суммы на развитие артиллерии, особенно тяжелой, приобретение боезапаса к ней, а также на развитие инженерных и авиационных войск. После утверждения царем решения Думы и Государственного совета «Малая программа» обрела форму закона.
Одновременно наше управление Генерального штаба разрабатывало и «Большую программу», в состав которой входила ранее принятая «Малая». Забегая немного вперед, отмечу, что в конце октября 1913 года Николай II одобрил «Большую программу», наложив резолюцию: «Мероприятие это провести в особо спешном порядке», и повелел завершить ее полностью к осени 1917 года.
В итоге эти необходимые, но все же запоздалые шаги дали свои результаты. В своих воспоминаниях генерал Сухомлинов будет отмечать: «…В 1914 году армия была настолько подготовлена, что, казалось, Россия имела право спокойно принять вызов. Никогда Россия не была так хорошо подготовлена к войне, как в 1914 году…»
Россия была готова к войне, которую сама хотела видеть – маневренной, молниеносной, заставляющей противника отступать, а то и бежать без оглядки. Максимум – 3—4 месяца, и такая война должна была быть оконченной полной победой той коалиции, куда бы вошла Россия. К такой войне наша страна, ее экономика и вооруженные силы были готовы…
Ну, а пока в рамках подготовки и реализации «Малой» и «Большой» программ мне было поручено в составе группы офицеров Генерального штаба ознакомиться с состоянием дел нашей авиации. Возглавлял нашу группу генерал от кавалерии, барон Александр Васильевич Каульбарс, участник Русско-японской войны.
Первым нашим местом осмотра стал авиационный отдел Русско-Балтийского вагонного завода, передислоцированного в 1912 году из Риги в Санкт-Петербург. Руководил этим отделом Михаил Владимирович Шидловский, который в апреле 1912 года принял на работу главным конструктором Игоря Ивановича Сикорского.