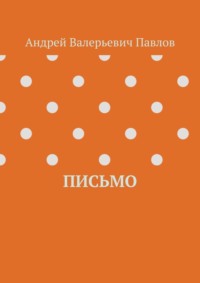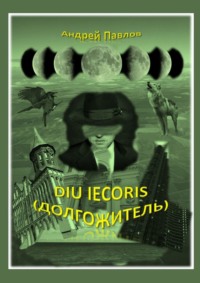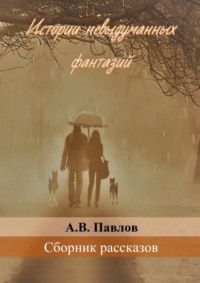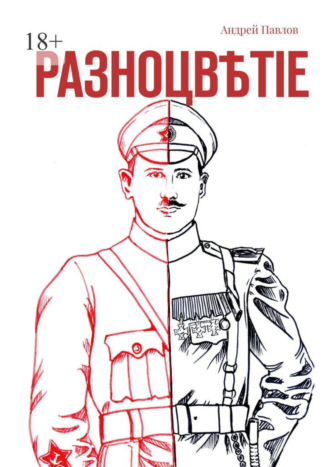
Полная версия
Разноцвѣтіе
«Ныне вполне своевременно и уместно вспомнить почин длинного ряда русских деятелей и мыслителей XVIII и начала XIX веков, которых коробило немецкое название нашей столицы. Уже Екатерина Великая издавала указы в „Граде Св. Петра“, Александр Благословенный привез древние изваяния с берегов Нила тоже в „Град Св. Петра“. Пушкин и другие поэты говорят о „Петрограде“; „Петроградом“ же называют нашу столицу все южные и западные славяне, также червоноруссы. Пора исправить ошибку предков, пора сбросить последнюю тень немецкой опеки. Мы, чехи, просим общественное управление столицы войти с ходатайством на Высочайшее Имя об утверждении и обязательном впредь употреблении русского названия столицы „Петроград“».
«Вот дела», – подумал я. Чехи просят переименовать столицу Российской Империи! Понятно, что на фоне борьбы за независимость Чехословакии путь через национальные чувства русских может поспособствовать обретению этой независимости, но как бы посмотрел народ этой страны, если бы, например, немцы, проживающие в ней, предложили переименовать Брно в Брюнн?! Бред!
На этом я закончил свои размышления о предложении чехов и занялся служебными делами. Я завершал уточнение мобилизационного плана бригады. Он был достаточно простым, но опыт службы в Генеральном штабе подсказывал мне, что все необходимо еще раз перепроверить и пересчитать, сверить с приказами военного ведомства, штатами и табелями к ним.
Внезапно зазвонил прямой телефон командира бригады.
– Слушаю Вас, Михаил Никанорович! – ответил я.
– Срочно зайдите ко мне, Алексей Валерьевич. Мобилизационный план у Вас?
– Так точно!
– Возьмите с собой.
Я взял план и, пока шел к Андрееву, понял, что, как говорят, наступил «час Икс».
– Только что получена шифровка об объявлении всеобщей мобилизации, Алексей Валерьевич. Обратной дороги нет, это война, – с торжеством в голосе произнес командир бригады. – Открывайте план, начинаем работать.
По всем оперативным планам наша бригада оставалась в пункте постоянной дислокации, доукомплектовывалась личным составом, и дообеспечивалась вооружением и материальными средствами до штатов военного времени, и наращивала свою боевую готовность. И если по людям и наращиванию боевой готовности вопросов не было, то в части, касающейся материальных средств, они периодически возникали. И связаны эти вопросы были с тем, что по всем расчетам этих запасов хватало, максимум, на полгода.
– Значит, быстро немца и австрийца побьем! – шутили офицеры штаба, участвовавшие в уточнении документов. – Это же не мы придумали такие нормы, а в Генеральном штабе, – говорили они, – а там дураков не держат! – и тут же в ужасе посмотрели на меня…
– Это точно! – засмеялся я и этим скрасил неловкую ситуацию.
В это время в верхних эшелонах власти также шла напряженная работа.
Задолго до начала Мировой войны определился ее коалиционный характер, стали явно проявляться враждебные друг другу государства. С одной стороны были страны Антанты – l’Entente cordiale – «сердечного согласия», – Россия и Франция, заключившие между собой военную конвенцию и договор в 1892 году, закрепленный в 1906—1907 годах соглашениями Англии с Францией и Россией. Противной стороной стали Германия и Австро-Венгрия, заключившие между собой военный союз, причем Австро-Венгрия сразу дала понять, что подчиняется всем решениям германского правительства.
И тут, накануне войны, опять предательски по отношению к России в который раз повела себя Англия. 1 августа министр иностранных дел Англии Эдуард Грей заверил немецкого посла в Лондоне, что в случае войны между Германией и Россией его страна останется нейтральной при условии, что Франция не будет атакована. И это, несмотря на союз с Россией! Подлость и низость высшей пробы!
В то время был очень популярным плакат, олицетворяющий единство и согласие стран Антанты, увенчанный следующими стихами:
«ФРАНЦИЯЛЮБОВЬ в ней чистая горитК земле родимой и народу, —Объята ею – отразитОна тяжелую невзгоду…РОССИЯВ ней ВЕРА глубока; тревогойНе поколеблема ничуть,Святая Русь во имя БогаСвершает свой победный путь…АНГЛИЯНАДЕЖДА в ней всегда живетНа мощь, величие России,С ЛЮБОВЬЮ, ВЕРОЮ идетОна на бой и их зоветСломить надменные стихии…Перед грозой враждебных силВ дни тяжкой скорби, испытаний —Святой союз их в поле браниСам Бог с небес благословил».Вот так Англия «звала в бой». Как показала история, и в дальнейшем на эту страну особо рассчитывать не приходилось…
* * *Итогом всего стало вступление России в войну. 4 августа русская армия, подгоняемая призывами Франции об оказании помощи, перешла границу, начав наступление на Восточную Пруссию.
То, что предлагали чехи, произошло 18 августа. На волне антигерманских настроений по указу Николая II столица была переименована в Петроград. Причем ненависть к Германии выходила за рамки разумного. Было разгромлено посольство Германии в Петрограде, немцев, живших в России, увольняли с работы, заставляли уезжать из страны, разрешая оставаться только старикам, малолетним и тем, кто принял православие до войны. Многим из оставшихся пришлось менять не только фамилии и имена, но и вероисповедание. Шел обычный в таких случаях психоз, подогреваемый националистами и псевдопатриотами.
На этом фоне быстрое продвижение русских войск в Восточную Пруссию вызвало небывалый подъем во всем государстве. Все считали, что война выиграна, осталось совсем чуть-чуть, но… Август, вернее, два его дня, 16 и 17, стали самыми кошмарными в истории этой войны для армии России: будет разгромлена 2-я армия Северо-Западного фронта. При этом только потери высшего командного состава окажутся катастрофическими.
Покончит жизнь самоубийством генерал Самсонов, командующий армией. Погибнут начальник штаба 8-й пехотной дивизии полковник Леонид Иванович Давыдов, мой старый знакомый по Ташкенту, начальник штаба 15-го армейского корпуса генерал-майор Н. И. Мачуговский и три командира пехотных полков этого корпуса: 144-го Каширского (полковник Каховский), 143-го Дорогобужского (полковник Кабанов) и 1-го Невского (полковник Первушин).
Попали в плен командиры двух армейских корпусов: генерал от инфантерии Н. Н. Мартос (15-й корпус), генерал-лейтенант Н. А. Клюев вместе со своим начальником штаба генерал-майором Е. Ф. Пестичем (13-й корпус), четыре (!) генерал-лейтенанта, командиры пехотных дивизий, А. А. Угрюмов (1-я дивизия), И. Ф. Мингин (2-я дивизия), Е. Э. Фитингоф (8-я дивизия) и А. Б. Преженцов (36-я дивизия). А если учесть, что до этих кровавых дней погибло, было ранено и схвачено в плен еще пять командиров полков и один командир бригады этой же 2-й армии, и это, не считая гибели младших офицеров и солдат, то станет ясно, что эта армия практически перестала существовать.
Интересно сложилась судьба остального командного состава управления 2-й армии, вышедшего из окружения вместе с группой штаба армии.
Начальник штаба армии генерал-майор П. И. Постовский должен был занять пост командующего, но, учитывая его несносный характер, Главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал от кавалерии Я. Г. Жилинский своим решением допустил к временному командованию армией командира 2-го армейского корпуса генерала от кавалерии С. М. Шейдемана. Недаром Постовского за глаза называли «сумасшедшим муллой», так как он был мусульманином. За его военные преступления в отношении гражданского населения Восточной Пруссии в 1915 германским военно-полевым судом он был заочно осужден. В дальнейшем Постовский с 1919 был в эмиграции, проживал в Ницце, где состоял членом Общества офицеров Генштаба. Дата и место его смерти осталось не известным…
Генерал-квартирмейстер штаба армии генерал-майор (с августа 1917 года – генерал-лейтенант) Н. ьГ. Филимонов умер от приступа грудной жабы во французском госпитале, располагавшемся в румынском городе Пьятра, в ноябре 1917 года.
Судьба начальника этапно-хозяйственного отдела генерал-майора Б. П. Бобровского не совсем ясна. По одним сведениям, он состоял в рядах украинской армии и был убит большевиками в феврале 1919 года, по другим – умер в эмиграции после 1933 года.
Начальник оперативного отделения полковник С. Е. Вялов руководил отделом в Лодзинской операции, а в бою под Перемышлем получил смертельное ранение и был захвачен в плен. Умер от ран в госпитале Будапешта 22 ноября 1915 года. При этом «за отличие в делах» посмертно произведен в чин генерал-майора.
Начальник разведывательного отделения полковник Д. К. Лебедев впоследствии был назначен начальником штаба 59-й пехотной дивизии и командиром 26-го пехотного Могилевского полка, с которым принял участие в Нарочской операции. В чине полковника в начале 1917 года назначен штаб-офицером – заведующим обучающимися в Императорской Николаевской военной академии офицерами. В марте того же года исполнял должность главного редактора журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид», став в апреле генерал-майором с утверждением в должности главного редактора. В начале 1918 добровольно вступил в Красную армию, где с марта служил делопроизводителем Главного управления Генерального штаба. Состоял ученым секретарем Военно-исторической комиссии по описанию событий Первой мировой войны и преподавателем на академических курсах Рабоче-Крестьянской Красной Армии и в школе штабной службы. В 1921 оптировался в Эстонию, где состоял на службе в местной армии с сохранением чина, преподавал в Военном училище и на Курсах Генерального штаба, а с 1 апреля 1927 вышел в отставку, после чего начал заниматься торговлей оружием. Там был причастен к различным махинациям и после шумного скандала по продаже кораблей «Ленну» и «Вамбола» был привлечен к суду. Прямого обвинения ему предъявлено не было, и он был освобожден из-под ареста, но при этом лишен права ношения мундира эстонской армии. Умер после перенесенной операции в частной клинике в начале января 1935 года в Таллинне.
Ну и, наконец, начальник общего отделения (связи) полковник А. Ф. Кадошников два месяца исполнял должность начальника штаба 8-й пехотной дивизии. С середины июля 1915 года почти полтора года являлся командиром 10-го Туркестанского стрелкового полка – был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В декабре 1916 года стал генерал-майором: был зачислен в резерв чинов при штабе Московского, а затем – Киевского военных округов. Перед Февральским восстанием стал начальником штаба 3-й пехотной дивизии, затем, в апреле, получил под свое командование 156-ю пехотную дивизию, пробыв в этой должности всего два месяца. Перед октябрьской революцией был назначен командующим 77-й пехотной дивизией. В 1918 году добровольно вступил в Красную армию, где был начальником Военно-Окружного Штаба при Московском Окружном Комиссариате, начальником штаба 11-й армии, возглавлял административное управление штаба Кавказского фронта, а с февраля 1921 года был штатным руководителем практических занятий по администрации Академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В дальнейшем его следы теряются. Говорят, что в 1930 году он преподавал в Московской военно-геодезической школе и умер в Москве 20 марта 1942 года…
Глядя на судьбы этих людей, так свято веривших в непобедимость Русской армии, перешедших границу России 4 августа 1914 года и воевавших до поры до времени «За Веру, Царя и Отечество», понимаешь, насколько пути Господни неисповедимы…
* * *Оставшимся в живых и чудом вырвавшимся из окружения предстояло вновь создавать эту армию практически с нуля в своем тылу. Вот и наша бригада в составе 50-й пехотной дивизии 28 сентября 1914 года прибыла на Северо-Западный фронт для усиления 2-й армии.
Наш прямой начальник, он же – начальник 50-й дивизии, генерал-лейтенант Николай Сергеевич Бердяев, прибыл к нам с проверкой по итогам передислокации в состав дивизии в район Варшавы. В это время уже вовсю шла Варшавско-Ивангородская операция, одно из самых крупных сражений осени 1914 года на Восточном фронте.
Начальник дивизии, достаточно стройный для своих 58-и лет, с пышными длинными усами, со слегка опухшими прищуренными глазами молча обошел весь строй нашей бригады, постоянно держа руки за спиной. После этого он собрал в кабинете командира бригады всех офицеров управления и сказал:
– Господа офицеры. Вы призваны для того, чтобы принять участие в возрождении героической 2-й армии. Сейчас она стойко бьется с германскими войсками в Варшавско-Ивангородской операции, и ваша миссия заключается в том, чтобы в самый сложный и ответственный момент оказаться тем самым козырем или джокером, который сможет, если понадобится, переломить ход сражения. Всем понятно? – звонким и в то же время спокойным голосом спросил он.
– Так точно! – ответили все как один.
– Ну вот и замечательно, – удовлетворенно сказал Бердяев. – Не смею более задерживать. Прошу остаться командира и начальника штаба.
Все покинули кабинет командира, в котором остались только Бердяев, Андреев и я.
– Господа, – начал свою беседу начальник дивизии, – положение очень трудное. После первых, достаточно легких побед нашей армии в Восточной Пруссии в начале августа произошел полный провал. Многие считают виной тому неумелое руководство армией Самсоновым, Царствия ему Небесного, – с тяжелым выдохом сказал Бердяев и перекрестился. – Но, как показали последующие события, то есть снятие с поста Главнокомандующего генерала Жилинского, это оказалось совсем не так. Есть, как мне кажется, паталогический просчет в планировании операций на нашем направлении, и мы это должны учитывать в своей служебной деятельности.
– Что Вы имеете в виду, Николай Сергеевич? – приподняв брови, спросил командир бригады.
– То, что Вы подумали, Михаил Никанорович! С получением директив и распоряжений сверху, внимательно их анализируйте и проецируйте на состояние Ваших подчиненных, противника и района предстоящих действий. Не спешите, это само главное. И Вы, господин подполковник, – обратился ко мне Бердяев, – прежде чем что-то предложить командиру, сверьтесь с расчетами.
– Есть! – ответил я, хотя не понимал, как можно поступать по-другому.
– Господа, я сейчас убываю на передовую, там планируется совещание руководящего состава. Прошу Вас – не подведите!
С этими словами генерал Бердяев убыл из бригады…
Пройдет 3,5 месяца и его снимут с должности начальника, предназначат в резерв чинов при Штабе Двинского военного округа, далее переведут в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа и уволят из рядов армии в начале июня 1917 года с пенсией и правом ношения мундира. Потом его следы потеряются на необъятных просторах нашей страны…
К моменту нашего прибытия в армию немцы заняли весь левый берег Вислы до Варшавы. Но их атаки были отражены на линии варшавских фортов. Наша бригада заняла район южнее местечка Мазонецка Ломжинской губернии и содержалась в резерве на случай прорыва германских войск с задачей прикрытия отхода русский войск.
К концу сентября полностью готовые русские 4-я и 5-я армии приступили к форсированию Вислы. Главнокомандующий германскими войсками на Восточном фронте генерал Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (или проще – Пауль фон Гинденбург) почти полторы недели пытался помешать этим действиям русских, и в итоге, чтобы не распылять силы, отдал Ивангородское направление 1-й австро-венгерской армии, сосредоточив все свои силы на Варшаве, где наступала наша, 2-я, армия.
Австро-венгры не оказали значительного сопротивления русским войскам и стали стремительно отступать. Обстановка складывалась так, что германцам и австрийцам угрожало полное окружение и разгром на Восточном фронте. Учитывая это, 14 октября Гинденбург решил прекратить сражение и отдал приказ своим войскам отойти на исходные позиции. Таким образом, хоть и маленькая, но победа была на стороне России.
Ровно через месяц после нашего прибытия на фронт, 29 октября, немцы со своей довоенной территории начали повторное наступление в том же северо-восточном направлении. Фокусом баталий стал город Лодзь, взятый и оставленный немецкими войсками тремя неделями ранее. В штабе дивизии рассказывали, что во время пребывания немцев в Лодзи германский комендант отменил преподавание русского языка в школах, удалил всюду русские надписи и запретил в публичных местах говорить по-русски. Просвещенная Европа…
Ударная группа 9-й германской армии нанесла удар в стык 1-й и 2-й русских армий. К вечеру этого же дня германцы вышли на позиции 5-го Сибирского корпуса, в состав которого входила наша 50-я пехотная дивизия. В этот же вечер мы получили шифровку от командира корпуса генерала от инфантерии Леонтия Леонтьевича Сидорина, который требовал передвинуть нашу бригаду ближе к линии соприкосновения с немецкими войсками. В то время, когда генерал Гинденбург планировал мощный удар по флангу и в тыл 2-й и 5-й армий Российской империи, не догадывавшееся об этом российское командование готовило вторжение в Германию.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.