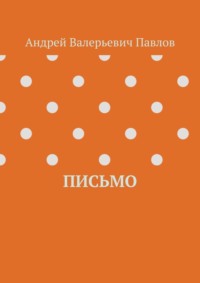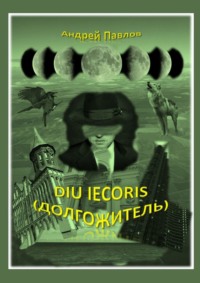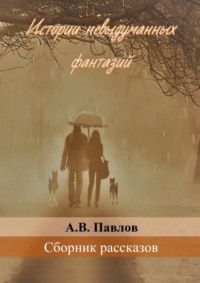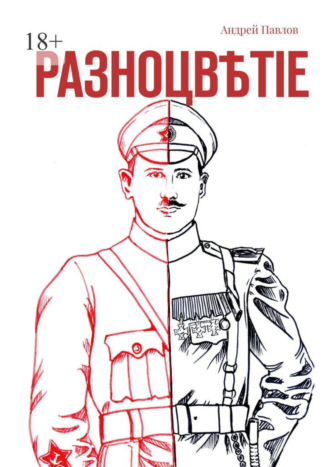
Полная версия
Разноцвѣтіе
– Вашей задачей, Черневский, – инструктировал меня генерал Каульбарс, – будет определение состояния скрытности проводимых мероприятий в отделе, выявление возможных утечек информации о готовившихся проектах нашей новой авиационной техники и подготовке предложений по совершенствованию этой работы. Вам понятно, господин подполковник?
– Так точно, Ваше высокопревосходительство! – четко ответил я.
– Тогда за работу, – сказал генерал, дав понять, что инструктаж окончен.
Главной целью работы нашей группы являлось определение готовности самолета «Русский Витязь» к летным испытаниям, намеченным на конец мая 1913 года. Сам самолет представлял собой четырехмоторный многосекционный биплан с крыльями разной длины и фюзеляжем в форме прямоугольной рамы, обшитой фанерой. «Русский Витязь» включал в себя две пассажирские кабины с камерой для хранения запасных частей и принадлежностей.
От первоначального варианта, носившего название на французский манер – «Le Grand» – «Русский Витязь» отличался размещением всех четырех двигателей в ряд, что стало прорывом в самолетостроении. Заслуга в этом, бесспорно, принадлежит конструктору Сикорскому.
– Как Вы к этому пришли, Игорь Иванович? – с интересом спросил я Сикорского после нашей встречи, когда он рассказывал нам о конструкции, боевых и летно-технических характеристиках самолета.
– Я приведу Вам простой пример, Алексей Валерьевич, – ответил мне с улыбкой конструктор. – Представьте телегу, которую нужно поднять в гору. Если толкать ее сзади, то, во-первых, не виден путь, а во-вторых, ею тяжело управлять. Но если Вы будете ее тянуть спереди, то эти две проблемы Вы решите без труда.
Не знаю, насколько это сравнение было корректным, но мне ответ Сикорского понравился и исключил другие вопросы по самолету.
Осмотр самого самолета мы производили в легком ангаре, построенном для его обслуживания и подготовки к вылету. Ангар находился на территории 1-й авиационной роты Корпусного аэродрома, за чертой Санкт-Петербурга (южнее Александровской и восточнее Вологодско-Ямской слобод), и охранялся он достаточно надежно, так что чужой человек сразу бросался в глаза. Вместе с тем, мой опрос военнослужащих указанной роты показал, что состояние прилегающей территории позволяет наблюдать за происходящим на аэродроме без необходимости прохода на него.
– Дело в том, Ваше высокоблагородие, что возвышенность вблизи церкви во имя Святой Троицы в селе Александровском, что за Невской заставой, позволяет, имея хорошее зрение, без проблем наблюдать за движением на нашем летном поле. А уж используя современные бинокли типа тех, что поставляют нам на вооружение, фабрики Е. Краус, можно в деталях все рассмотреть, – поделился со мной подпоручик Греков О. М., проходящий службу в аэродромной роте.
– Пойдемте, подпоручик, посмотрим вместе, укажите мне, откуда наблюдали за аэродромом. А, кстати, зачем Вы это делали? – поинтересовался я по пути к церкви.
– Так, это, Ваше высокоблагородие, на Пасху туда ходили, погода была отличная, я как осмотрелся вокруг, так и увидел наш аэродром, – несколько волнуясь, ответил мне Греков.
– Хорошо, посмотрим, – ответил я, и мы продолжили движение.
Подойдя к церкви и поднявшись на пригорок, я увидел аэродромное поле, почти как на ладони. Особо выделялся белым цветом наш ангар, в котором стоял «Русский Витязь». Способов скрыть весь аэродром от разведки противника еще не было придумано, а вот замаскировать лишь ангар вполне доступно. Это я пометил у себя в рабочем блокноте.
Следующим этапом моих действий было изучение личного состава, который привлекается к работам с «Русским Витязем». Таких оказалось 125 человек, из них 5 – офицеров, 70 – солдат, 30 – вольноопределяющихся и 20 – гражданских из числа обслуги. Времени у меня было в обрез, но для себя решил, что хотя бы гражданских и вольноопределяющихся я изучить должен. Из канцелярии роты мне принесли их личные дела, и я ушел с головой в их изучение.
В целом, к работам с самолетом привлекались достаточно испытанные и преданные делу граждане, однако один вольноопределяющейся, некто Гаивой Дмитро Прокопьевич, уроженец Киевской губернии, меня заинтересовал. 35 лет от роду, он в 1905 году получил 3,5 года ссылки в Туруханский край за участие в забастовке в Киеве. На мой запрос в жандармское управление Енисейской губернии о его поведении был получен ответ, что Гаивой особо ничем не выделялся, нарушений не допускал, но близко сошелся с Константином Васильевичем Акашевым, членом партии эсеров, террористом, сосланным в Туруханский край после определения его причастным к покушению на Столыпина в 1908 году. Кроме того, было установлено, что этот Акашев был одним из организаторов забастовок на Российско-Балтийском вагонном заводе, где теперь трудился Гаивой. Буквально перед самым освобождением Гаивого из ссылки Акашев совершил побег и скрылся за границей, как потом оказалось, в Италии, где обучался летному делу. Тогда еще никто не мог представить, что самолеты могли использоваться как средство террора, но фраза, произнесенная одним из высших полицейских начальников того времени о том, что «прежде чем учить население летать, надо научить летать полицейских», имела определенный смысл и основание.
В общем, я доложил о проделанной работе генералу Каульбарсу, с его разрешения передал полученную информацию жандармскому управлению Санкт-Петербурга и с чувством выполненного долга завершил работу, кульминацией которой стал испытательный полет «Русского Витязя», совершенный им 23 июня 1913 года.
– Вы хорошо поработали, Черневский, – похвалил меня генерал Каульбарс по завершении проверки. – Ваше предложение о маскировочном окрашивании объектов аэродромной сети нашло поддержку в инженерном управлении. Что касается ссыльного – береженного Бог бережет, как говорится, – сказал генерал и перекрестился. – Жандармы ему ничего не сказали, но взяли под контроль и перевели в другой отдел. Буду ходатайствовать о Вашем поощрении, Алексей Валерьевич.
– Рад стараться, Ваше превосходительство! – четко ответил я.
…Барон Александр Васильевич Каульбарс был одной из самых неординарных личностей в Российской Империи. Военный деятель и ученый-географ, член Военного совета, он стал одним из организаторов русской военной авиации, успел стать Министром обороны и председателем совета министров княжества Болгарского, участником ряда военных походов (Кульджу, Хива), военных действий в Китае в начале ХХ века, Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн, будет награжден золотым оружием с надписью: «За храбрость». Руководил Кашгарской экспедицией и исследованием Китая, Тянь-Шаня и Аму-Дарьи, стал основателем города Каракол (Пржевальск) и автором работ «Тянь-Шань», «Низовья Аму-Дарьи», являлся действительным членом Русского географического общества. Но революция… После прихода к власти большевиков он уедет на Юг страны, где вступит в ряды Добровольческой армии, состоя с начала июля 1919 года в резерве чинов при штабе Главнокомандующего Вооруженных Сил Юга России. Транзитом через Константинополь и Болгарию эвакуируется во Францию, где станет работать до конца своей жизни в конторе Частного Радиотелеграфного общества, став почетным председателем Союза Русских летчиков. Скончается в Париже, 25 января 1929 года в возрасте 85 лет и будет похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа…
* * *– Поздравляю Вас с очередным орденом, Алексей Валерьевич, – сказал мне начальник Генерального штаба генерал Михневич, награждая Императорским орденом Святого равноапостольного князя Владимира II степени, также без мечей. – Александр Васильевич Каульбарс очень лестно отзывался о Вашей работе, – добавил Н. П. Михневич, – а еще я слышал, что Вы расстраиваетесь, когда Вам вручают ордена без мечей, верно?
Я несколько смутился, но быстро пришел в себя.
– Разрешите доложить отдельно? – спросил я.
– Это верное решение, Черневский, – ответил с явным удовлетворением начальник Генерального штаба. – Жду Вас завтра с генералом Даниловым к полудню с предложением о Вашем дальнейшем предназначении. Вы уже переросли занимаемую должность, но опыта командования у Вас крайне мало. Жду завтра, – сказал Михневич и перешел к следующему награждаемому.
Вот, подумал я, завтра может решиться моя судьба на многие годы вперед. И хорошо, что Михневич сам предложил выбрать мне должность, а не назначил. Значит, ценит и доверяет. Я не должен подвести.
* * *Я прекрасно понимал, что после стольких лет штабной работы в центральном аппарате мне никто не поручит не то чтобы бригаду, но даже полк, поэтому я, чтобы «втянуться» в войсковую работу, не сильно отрываясь от той, что велась мною в это время, был готов к назначению на должность в штаб соединения. Об этом я и доложил генералу Данилову, а на следующий день – начальнику Генерального штаба.
– Хорошо, Черневский, я Вас услышал, – ответил мне генерал Михневич. – Вы получите предписание для убытия к новому месту службы в течение недели. Ступайте. А Вы, Георгий Никифорович, – обратился он к Данилову, – ищите замену Алексею Валерьевичу. Не смею более Вас задерживать.
Мы вышли из кабинета и направились к себе в управление.
Через несколько дней, а точнее, 15 августа 1913 года, меня вызвал к себе Данилов.
– Ну что же, Алексей Валерьевич, – поприветствовал он меня рукопожатием, и веселым тоном продолжил, – вот и Вам нашлось место в войсках. Как Вы просили – штабная работа. С 1 сентября сего года 50-я артиллерийская бригада, расквартированная в Луге, выходит из состава 22-го армейского корпуса и переподчиняется 18-му армейскому корпусу без изменения места дислокации. Начальник штаба этой бригады – человек уже довольно преклонных лет, и собрался отойти от дел, вот ее командир, генерал-майор Андреев Михаил Никанорович, и попросил подыскать ему стоящего офицера. Видите, как совпало! Вам нужна штабная работа в войсках, а ему – достойный начальник штаба. Да и уезжать далеко от Санкт-Петербурга не придется. Поди прикипели уже к городу Петра?!
– Так точно, прикипел, Ваше превосходительство! Но с предложенной должностью согласен. Разрешите оформлять документы?
– Готовьте. На все про все у Вас 5 дней. 20 августа убываете, а 21 уже представляетесь Андрееву. Более Вас не задерживаю, – ответил мне Данилов-черный и склонился над бумагами.
Сборы мои были недолгими, и уже к исходу 18 августа я был готов к убытию к новому месту службы. Вечером того же дня я зашел в кабинет Данилова.
– Разрешите по личному вопросу, Георгий Никифорович.
– Слушаю Вас, Алексей Валерьевич.
– Завтра последний день моей службы в Генеральном штабе, и я прошу Вашего разрешения на проведение товарищеского ужина со своими сослуживцами и Вами непременно.
– А успеете отойти от «товарищеского ужина» до представления генералу Андрееву? – с прищуром и лукавой улыбкой спросил Данилов.
– Так точно, все будет на высшем уровне, – бодро ответил я.
– Не сомневаюсь в этом, – ответил Данилов благосклонным тоном и продолжил: – Место и время позвольте уточнить?
– Михайловская площадь, дом 5, в 17 часов, Ваше превосходительство, – быстро ответил я.
– А, «Бродячая собака»? Знаю, наслышан! Ну что же, я не против, приглашайте, кого считаете нужным, я также буду.

Эмблема работы М. Добужинского. 1912 год.
Вполне удовлетворенный нашей беседой, я покинул кабинет теперь уже почти бывшего начальника.
Арт-кафе «Бродячая собака» было открыто в конце 1911 года в подвале дома Жако антрепренером Борисом Прониным, одним из лидеров формирования особой культуры театрального клуба предреволюционных лет. Здесь проводились театральные представления, лекции, музыкальные и поэтические вечера. Славу арт-кафе создавали его посетители, среди которых особо стоит выделить, по моему мнению, Ахматову, Мандельштама, Гумилева и Мейерхольда, хотя, бесспорно, там бывали и другие достойные люди.
Анна Ахматова в 1912 году посвятила «Бродячей собаке» загадочное своим окончанием стихотворение:
«Да, я любила их, те сборища ночные, —На маленьком столе стаканы ледяные,Над черным кофеем пахучий, зимний пар,Камина красного тяжелый, зимний жар,Веселость едкую литературной шуткиИ друга первый взгляд, беспомощный и жуткий».В этом артистическом подвале все эти люди жили как бы вне времени и пространства, играя роль богемы Санкт-Петербурга. Заполняли кафе они обычно после полуночи, так что нам ничего не мешало провести прекрасный вечер в этом замечательном и душевном месте.
Из холодных закусок нам подавали лосося слабой соли и буженину с хреном, из горячих – рыжики в сливках с сырными гренками, а также запеченные баклажаны. На первое – мясную солянку и уху по-русски, на второе – Бефстроганов и говядину по-петербуржски, на гарнир – картофель по-сельски и овощи на пару. На десерт принесли пирожные с заварным кремом и фруктами, а также теплый яблочный пирог с мороженым. Пили кофе, выпивали: шампанское «Louis Roederer» (ветераны управления) и водку «А. Ф. Штриттер» (молодежь управления). Курили. Малая изысканность меню говорит не о плохом обеспечении этого кафе, а о том, что оно, в первую очередь, было «арт». Но и мы пришли в него не для «набивания утробы», а пообщаться, поговорить о мирских делах, выслушать каждого и, без сомнения, проводить меня и пожелать удачи. Все прошло вполне достойно, и в конце вечера генерал Данилов весьма любезно поблагодарил меня. С завтрашнего дня меня ждал новый поворот в службе.
* * *Сколько таких поворотов бывает в жизни каждого офицера?! Только у меня за почти 31 год жизни и 12 лет (без учета Михайловского Воронежского кадетского корпуса) военной службы, назначение в 50-ю бригаду стало шестым местом моей службы. Да, четыре из них я провел в столице, но это мало что меняет. Благо, я был не обременен семейными узами и отеческими заботами, но многие, если не большинство офицеров были от этого очень зависимы!
Переезды с одного конца нашей великой страны в другой, из Хабаровска в Варшаву, из Архангельска в Ташкент и т. п. заставляли офицеров и их семьи бросать нажитое, срывать детей из учебных учреждений, жен – из уютного, свитого с любовью семейного гнездышка и окунаться в неизвестность и необустроенность. Конечно, все понимали, что тебя посылают не в «белое пятно» на карте России, что там уже служили, служат и будут служить защитники Родины, но такие посылы, переводы, назначения зачастую становились проблемой.
Нередко к новому месту службы назначали вопреки воле назначаемого, без учета его реальных заслуг, способностей и возможностей, а только из-за того, что какой-то «визирь» решил, что он вправе решать судьбы своих «пешек» и направлять их туда, куда ему заблагорассудится в рамках своих полномочий. Увы, такое случалось очень часто. И из-за этого страдало не только дело, но и семейная жизнь офицеров. В военное время или при приготовлении к нему такие вопросы не обсуждались – надо, так надо! Но в мирное… Из-за этого частенько в нашей армии случались случаи пьянства и блуда, причем не только со стороны офицеров, но и их жен, а затем – дуэли, самоубийства, да и просто убийства… Парадокс, но только война могла спасти многих из этих несчастных. Нас, офицеров, бессовестно обвиняли в отсутствии стыда, беспробудном пьянстве, разгильдяйстве и лени, но мы, несмотря ни на что, отдавали свои жизни, защищая Россию…
* * *До завершения организационно-штатных мероприятий, связанных с переподчинением 50-й артиллерийской бригады, я не мог принять дела и должность начальника штаба, но при этом входить в курс дела был обязан. Поэтому, прибыв в Лугу 21 августа, сразу же явился к генерал-майору Андрееву.
– Ваше превосходительство! 50-й артиллерийской бригады начальник штаба подполковник Черневский представляюсь по случаю назначения на воинскую должность! – четко отрапортовал я в кабинете своего начальника.
Из-за стола привстал и подошел ко мне человек, явно старше своих лет (на этот момент ему было 45 лет, а 46 исполнилось 17 октября). Среднего роста, немного сутулый, его старили морщины на лице и привычка подкладывать ладонь к уху или поворачиваться к собеседнику боком, чтобы лучше слышать разговор, так характерные для офицеров артиллерии, потерявших слух при проведении стрельб. Судя по массивному пенсне, он также был обделен хорошим зрением.
– Здравствуйте, Алексей Валерьевич! Рад Вас видеть в управлении нашей бригады. Мне о Вас очень лестно отзывался генерал Данилов, который «Черный». Вы же его так называли в управлении? – с улыбкой спросил он.
– Точно так, Ваше превосходительство! – немного смутившись, ответил я.
– Ну и замечательно, – продолжил он разговор после крепкого рукопожатия, подтвердившего, что ему только 45, и предложив мне сесть.
– Как думаете приступать к исполнению обязанностей?
Имея опыт общения с командирами артиллерийских бригад в лице генерал-майора А. Д. Головачева, я постарался в свой ответ вложить максимум знаний о 50-й бригаде.
– Ваше превосходительство! Учитывая историю создания и боевого пути нашей бригады, мне как начальнику штаба необходимо, в первую очередь, уяснить положение дел к настоящему моменту. Сделать это я планирую путем ознакомления с боевыми задачами бригады на военное время, а далее определить, насколько состояние бригады соответствует этим задачам. Кроме того, я предполагаю детально побеседовать с офицерами и другими должностными лицами штаба на предмет определения уровня их соответствия занимаемым должностям и после этого сделать паузу – представить свои соображения Вам. Затем, проведя при необходимости организационные изменения, приступить к совершенствованию подготовки вверенного мне личного состава и, с Вашего позволения, всей бригады, ибо сомнений в том, что бригада подготовлена сейчас на требуемом уровне, у меня нет. Доклад закончил.
– А дальше? – с интересом спросил у меня генерал Андреев.
– Дальше, я надеюсь, определить возможности нашей бригады позволят учения и маневры, а в самом худшем случае – война.
– Это верное замечание, – поддержал мои слова Андреев. – Даст Бог, все образуется, и наши политики смогут исключить печальную развязку.
Вернувшись за свой стол, командир бригады продолжил:
– Сегодня-завтра размещаетесь, приводите свой внешний вид в подобающий порядок, и 23 августа я представляю Вас управлению бригады. Указания о Вашем назначении начальником штаба мною подписаны и отправлены в дивизионы еще сегодня утром. Более Вас не задерживаю. Хотя нет, постойте! Вы где остановились?
– Пока нигде, Ваше превосходительство. Вещи оставил у станционного смотрителя.
– Раз так, пока не осмотрелись и не выбрали жилье, рекомендую Вам номера в Базарном переулке. Там и недорого, и опрятно, и поесть можно рядом. Мой адъютант Вас проводит.
Он нажал на кнопку звонка, расположенного на углу рабочего стола, и в кабинет вошел подпоручик.
– Господин подпоручик! Проводите господина подполковника в номера на Базарном переулке и скажите хозяину, что от меня, чтобы, шельмец, цену не взвинтил! Еврей… – развел руками, обращаясь уже ко мне, генерал. – А потом удивляются, что их громят… – закончил свою речь Андреев и пожелал мне хорошо устроиться.
…Участник мировой войны, генерал-майор М. Н. Андреев станет инспектором артиллерии армейского корпуса, а затем двух армий. После Октябрьской революции встанет на сторону Белого движения на юге России…. Последние сведения о нем дойдут по состоянию на 1919 год, когда он будет находиться в составе Добровольческой армии. Как закончится его жизнь, для потомков останется загадкой…
* * *Номера оказались действительно недурны, и я, разложив привезенные адъютантом со станции вещи, приняв ванну и поужинав, лег отдыхать.
Следующий день мною был потрачен на приведение себя в порядок, подготовку обмундирования и знакомства с городом. Он как бы состоял из двух частей: первой – маленький старый город, центральная его часть, и второй – дачные поселения, курортный городок с уютными маленькими дачками и большими виллами прямо в лесу! Прекрасное сочетание для жителей Луги, насчитывающей к тому времени более 16 тысяч человек.
На следующий день, 23 августа, я прибыл на службу пораньше, но командир бригады был уже на месте.
– Доброе утро Алексей Валерьевич! – встретил меня генерал Андреев.
– Доброе утро, Ваше превосходительство!
– Как, с пользой провели время?
– Так точно!
– Рад за Вас. Построение у нас на плацу намечено на 9 часов, сейчас без четверти 8. Пойдемте, я покажу Вам кабинет начальника штаба.
Мы вышли в коридор, поднялись на второй этаж, и сразу перед нами возникла дверь с надписью на табличке: «Приемная начальника штаба подполковника Черневского А. В.»
– Каково Вам, а? – озорно спросил меня Михаил Никанорович.
– Оперативно и очень приятно, – честно ответил я.
– То-то же, – продолжил в том же духе генерал. – Теперь от Вас зависит, насколько долго эта табличка будет тут висеть. Причем как с хорошей, так и с плохой стороны, ну, Вы меня понимаете.
– Конечно, Ваше превосходительство! – ответил я и подумал, что действительно, коль буду валять дурака – снимут, проявлю себя – назначат на высшую должность.
– Ну, проходите, обустраивайтесь, а я пойду к себе, и без пяти 9 будьте добры быть у меня. Ах, да, забыл совсем. Помощника у Вас пока нет, я не стал Вам его навязывать, может, Вы из своей прошлой службы соблаговолите взять – как решите, – сказал Андреев и ушел.
Приемная представляла собой небольшой кабинет, в котором у окна размещался письменный стол со стулом, еще пять стульев стояли вдоль одной стены, напротив которой находилась еще одна дверь с табличкой «Подполковник Черневский А. В.», рядом стояла вешалка на пять крючков и небольшой несгораемый шкаф-сейф. На столе находился письменный прибор, американская пишущая машинка, стопка бумаги и полевой телефон для связи с коммутатором.
Кабинет оказался раза в два больше приемной. Напротив входа стоял длинный стол со стульями для посадки пятерых с каждой стороны, который упирался в мой рабочий стол. Этакая конструкция в виде буквы «Т». Справа от моего стола находился сейф, слева – тумбочка с выдвижными ящиками, на которой разместились телефоны прямой связи с командиром и приемной. Мой стол также был обеспечен, как и моего будущего помощника, только не было пишущей машинки. На окнах висели светонепроницаемые гардины, с другой стороны, у стены, стоял книжный шкаф, и висела карта, скрытая брезентовым чехлом. Справа от моего стола была еще одна дверь, которая вела в комнату отдыха. Неудивительно ее наличие, ибо начальнику штаба зачастую приходится «жить» на службе, и такая комната необходима. В ней размещалась солдатская кровать, тумбочка, табурет и шкаф для одежды. Кроме того, еще за одной дверью была уборная с умывальником. Таким образом, все было организовано так, чтобы помогать службе. Я был вполне удовлетворен.
Без пяти 9 при полном параде я был у кабинета командира бригады. Он вышел тут же, также при всех регалиях. Взглянул на меня, посмотрел на мои ордена без мечей и, улыбнувшись, сказал:
– Гарантирую Вам, Алексей Валерьевич, что мечи будут. Теперь – марш, марш на плац!
На плацу управление уже было выстроено, и доклад командиру представлял дежурный по бригаде:
– Смирно! Равнение налево! Господа офицеры, сабли вон! Ваше превосходительство! Управление 50-й артбригады по Вашему приказу построено! Незаконно отсутствующих нет! Дежурный по бригаде штабс-капитан Зихман! – закончил доклад дежурный и отошел в сторону, пропуская командира.
Генерал Андреев сделал несколько шагов вперед и повернулся к строю.
– Господа офицеры! Представляю Вам начальника штаба бригады подполковника Черневского Алексея Валерьевича. Прошу оказать помощь при постановке в строй и иметь в виду, что в мое отсутствие господин подполковник будет исполнять обязанности командира бригады. Подполковник Черневский, встать в строй!
– Слушаюсь, – ответил я и отчеканил несколько строевых шагов, пока не возглавил строй управления бригады.
– Вольно! Начальникам отделов и служб отдать указания, убыть по рабочим местам.
После этой команды соответствующие начальники вышли из строя и отдали распоряжения подчиненным. Через несколько минут плац опустел. На нем стоял только я и дежурный по бригаде.
– Зайдите ко мне, господин штабс-капитан, – сказал я ему.
– Есть, господин подполковник, – ответил Зихман и проследовал за мной.
После того, как мы вошли ко мне в кабинет, я повернулся к дежурному и воскликнул:
– Аркадий Генрихович! Вы ли это?! Какая встреча!
– Я, Алексей Валерьевич! Я также рад Вас видеть! – и мы тепло пожали друг другу руки.