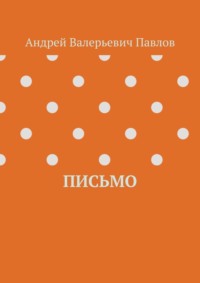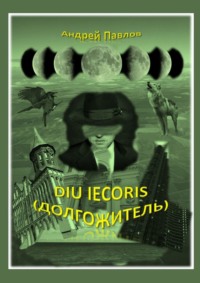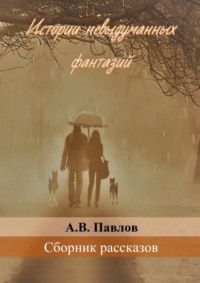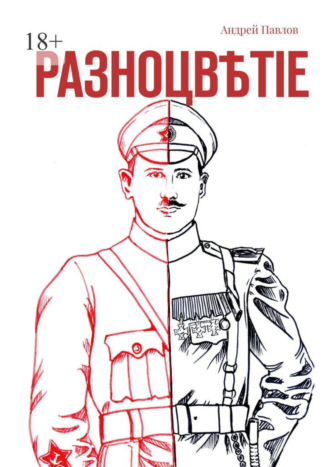
Полная версия
Разноцвѣтіе
Начало 1905 года мы встречали с надеждой. С надеждой на то, что, наконец, русская армия на Дальнем Востоке перейдет в наступление и разочтется с японцами за наши бесславные поражения. С надеждой на то, что закончится в умах русских людей разброд и шатания, так негативно влияющие на все прогрессивное общество и тащащие ко дну простых людей. Но – увы… Год начался с «Кровавого воскресенья».
О том, что происходило в первые дни января в Санкт-Петербурге, мы знали мало, но, судя по происходящим событиям в Тифлисе, противники царизма о делах в столице владели большей информацией и действовали очень активно. Только в Тифлисе в январе 1905 года произошли забастовки работников железнодорожных мастерских, механических заводов и типографий, в апреле прошла забастовка домашней прислуги, в мае – мелких торговцев и приказчиков. В июне обстановка накалилась до того, что Тифлис и Тифлисский уезд были объявлены на военном положении.
Несмотря на это, деятельность бунтовщиков продолжалась. 12 июля в результате нападения был ранен Тифлисский полицеймейстер, коллежский советник Георгий Самойлович Ковалев, а в августе на вокзале убит начальник Тифлисской станции Терпиловский. Вообще август стал самым кровавым в городе – 29 числа на несанкционированной сходке были расстреляны рабочие, в результате чего имелось несколько сот убитых и масса раненых. Не видя выхода из сложившейся обстановки, 31 августа весь состав Тифлисской думы ушел в отставку.
До октября обстановка успокоилась, но потом опять началось ужасное. 16 октября объявили забастовку железнодорожные мастера, а 22 октября черносотенцы и шпики бросают бомбы и стреляют из револьверов в манифестантов: убито 98 человек, ранено 66. В результате этого 30 октября в Тифлисе вспыхивают многолюдные митинги, продолжающиеся вплоть до конца декабря. На их подавление кидают и нашу бригаду. 23 декабря в Тифлисе орудийным огнем разрушен дом; убито 34 и ранено 30 человек…
Я всегда осознавал, что военнослужащий призван защищать свою страну. А чтобы защищать, иногда нужно убивать, в том числе и противника. Но я никогда не думал, что первой моей жертвой станет мой земляк, единоверец, россиянин. Я не видел этого конкретного человека, погибшего под развалинами дома в Тифлисе, но знал, что специально в этот дом не стреляли. Рядом с ним на улице была возведена баррикада, откуда по нашим солдатам велся пулеметный огонь. Что стало причиной промаха – изношенность механизмов наводки орудия, при которой оно начинает «капризничать», посылая каждый снаряд по-иному, или неопытность наводчика, в результате чего изменение угла прицеливания в большую или в меньшую сторону на 1/10 «тысячной» приводит к тому, что дуло ствола сместится вверх или вниз от нужного положения примерно на 0,1 миллиметра, то есть на толщину лезвия безопасной бритвы, и снаряд полетит уже не по той траектории, которая нужна… А пулемет замолчал, сохранив жизни и здоровье нескольким десяткам наших бойцов…
– Чего же это, Ваше благородие?.. – то ли спросил, то ли взвыл наш наводчик.
– Это – война, – ответил я ему и сразу вспомнил слова М. Д. Скобелева: «Раз начав войну, нечего уже толковать о гуманности… Война и гуманность не имеют ничего общего между собой. На войну идут тогда, когда нет иных способов. Тут должны стоять лицом к лицу враги – и доброта уже бывает неуместна. Или я задушу тебя или ты меня…»
– Мы – солдаты и выполняем приказ. Земной суд тебя будет судить за то, что ты не выстрелил, а Божий – за то, что убил. Выбора нет. Ты принял присягу и защищаешь веру, царя и Отечество…
Вечером того же дня вся батарея молилась усердно…
Все эти события происходили на фоне нашего поражения на Дальнем Востоке. В августе в Портсмуте был заключен мирный договор, в результате которого война с Японией завершилась. Нельзя сказать, чтобы армия была этим договором особенно обрадована: ни музыки, ни криков «ура» нигде не было слышно. Все чувствовали себя неудовлетворенными, если не больше: всех угнетала одна мысль – мысль о бесполезных трудах и бессмысленных жертвах, доставивших нам вместо славы чуть ли не позор…
* * *В конце 1905 года мне было предложено поступать в Николаевскую академию Генерального штаба, названную так в честь Императора Николая I. По существующим тогда правилам предстояло сначала выдержать предварительный экзамен при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса. Начальник штаба корпуса, генерал-майор Георгий Эдуардович Берхман, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, один из немногих военачальников, награжденных в один год (1878) тремя орденами (Святой Анны 4-й степени, Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом), сам выпускник этой академии, лично принимал экзамены у кандидатов.
– Смотри, Черневский, не посрами бригаду и корпус. А закончишь обучение – буду рад тебя видеть снова на Кавказе, – такими напутственными словами он провожал меня в Санкт-Петербург.
Но встретиться с этим геройским человеком мне больше не пришлось. В Первую мировую войну он, командуя Сарыкамышской группой войск, одержит блестящую победу над турецкой армией в Сарыкамышской операции, за которую 26 июля 1916 года будет награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В дальнейшем после Октябрьской революции Г. Э. Берхман будет состоять в Добровольческой армии Белого движения, вместе с которой транзитом через Константинополь и Болгарию выедет во Францию и поселится в Марселе. Там он возглавит отделение Российского общевоинского союза и скончается 2 февраля 1929 года…
Так через три года, в 1906 году, я снова оказался в Санкт-Петербурге.
* * *Не всех принимает этот город, не всех обволакивает своими тайнами, своим вдохновением и красотой. В нем мало побыть один раз. Если ты приехал в него на немного, по служебной надобности или погостить у тетки на Пасху – он тебя обязательно встретит мелким моросящим дождем, низко ползущими свинцовыми тучами и пронизывающим ветром вдоль Невы и прилегающих каналов.
К приезду в Санкт-Петербург нужно готовиться заранее, ждать этой встречи, представлять себе не ненастье, а солнечную погоду в любое время года. Осознавать, что через некоторое время ты прибудешь в столицу ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО! А приехав туда либо поездом, либо в карете, сразу нужно идти на Невский проспект, от Николаевского (Октябрьского, а затем Московского) вокзала двигаться неспешно в сторону Дворцовой площади. Город должен увидеть тебя, ты его еще успеешь посмотреть! Город должен понять, что ты не случайный залетчик-франт, приехавший на мгновенье, а основательный господин, готовый и способный оценить всю его красоту и прелесть. А поняв это, город откроет тебе все свои тайны и легенды, и ты никогда его уже не забудешь и будешь всегда стремиться вернуться к нему, увидеть его, чтобы вновь восхититься им!
Много стихов, воспевающих этот город, но мне ближе всего строки, написанные Николаем Яковлевичем Агнивцевым, москвичом от рождения, который, находясь в эмиграции, с грустью воспевая дореволюционный мир, выпустил в Берлине в 1923 году сборник «Блистательный Санкт-Петербург» – свою лучшую книгу элегических стихов о дооктябрьском аристократическом и артистическом городе, столице Империи:
«Санкт-Петербург — гранитный город,Взнесенный Словом над Невой,Где небосвод давно распоротАдмиралтейскою иглой!Как явь, вплелись в твои туманыВиденья двухсотлетних снов,О, самый призрачный и странныйИз всех российских городов!Недаром Пушкин и Растрелли,Сверкнувши молнией в веках,Так титанически воспелиТебя в граните и в стихах.И майской ночью в белом дыме,И в завываньи зимних пургТы всех прекрасней, несравнимыйБлистательный Санкт-Петербург!» * * *– Что же, господа! Поздравляю вас с зачислением в Николаевскую академию Генерального штаба, – начал свою речь ее начальник, генерал-лейтенант Николай Петрович Михневич. – Вам предстоит пройти нелегкий путь в познании не только законов войны, но и законов российской государственности, взаимоотношений России с другими странами, экономики и права. По-разному сложится ваше обучение, но вы должны понимать и осознавать, что через два года в вашем лице армия и государство российское получит элиту. Многие из вас после второго курса отправятся в войска, лучшие из потока офицеры поступят на дополнительный курс, окончивши который, будут причислены к Генеральному штабу. Но всем вам, при должном усердии, будут гарантированы высшие посты не только в армии, но и в государственном управлении. Все зависит от вас. С Богом!
После Февральской революции Н. П. Михневич будет отстранен от должности начальника Главного штаба, которую занимал с 1911 года, и уволен из армии по болезни с правом ношения мундира и пенсией. Октябрьский переворот встретит с пониманием, поступит на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, став преподавателем 1-х Петроградских артиллерийских курсов, и в Артиллерийской академии и умрет 8 февраля 1927 в Ленинграде, где и будет похоронен в Александро-Невской лавре…
В то время академия располагалась по адресу Суворовский проспект, дом №32, своих жилых фондов не имела, и мы, слушатели, снимали квартиры поблизости. Свою квартиру на улице Мытнинской, дом №25, я делил с Александром Карловичем Андерсоном, выпускником Михайловского артиллерийского училища, штабс-капитаном. Не скажу, что мы были в теплых, дружеских отношениях, скорее в приятельских – сказывалась ранее описанная «вражда» с Константиновским артиллерийским училищем. Все вопросы, касающиеся обучения, мы обсуждали вместе, но личное время проводили по-разному. Мне больше по душе было посещение музеев и театров, а ему – библиотек и так называемых тайных обществ, которыми в те годы была переполнена столица.
– Зачем Вам все это, Александр Карлович? – интересовался я. – Бог этого не любит и смотрит на это с осуждением.
– Мне кажется, Алексей Валерьевич, что в этом есть суть правды на Земле, и я хочу добраться до этой правды, – отвечал он мне.
После выпуска из академии А. К. Андерсон построит неплохую карьеру в Императорской армии, став в конце ее существования полковником, командиром 14-го Митавского гусарского полка, награжденным в Первую мировую войну четырьмя орденами (Святых Анны 2-й и 3-й степени, Станислава 2-й и 3-й степени). После Октябрьской революции добровольно вступит в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, дослужившись в ней до помощника командующего 5-й армией на Дальнем Востоке. В звании комдива уйдет на пенсию, но в конце октября 1937 года будет арестован, и 26 апреля 1938 года приговорен к исключительной мере наказания по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, и в тот же день расстрелян…
Что касается обучения в академии, то еще совсем недавно, каких-то десять лет назад, отрицательной чертой ее курса была именно академичность, погоня за высоким уровнем общего и притом теоретического образования в ущерб практической полевой подготовке и работе в живой войсковой обстановке. К тому же академия давно отстала от жизни, не учитывая эпоху войн с принципиально новым вооружением, родами войск, тактикой, стратегией, обеспечением армии… В Генеральном же штабе Императорской армии по старинке внушали слушателям, что «пуля – дура, а штык – молодец», «главное – ввязаться в сражение, а там посмотрим». Академия по-прежнему отваживала будущих командиров от личной инициативы и персональной ответственности. Главное – выполнить приказ начальства, пусть пустоголовый, дурацкий, глупый, несвоевременный и опасный, не отвечающий складывающейся обстановке, но исполнение которого необходимо хотя бы для собственной же защищенности. Инициатива выбивалась дубиной приказов. С 80-х годов XIX века академия стала походить на дореформенную бурсу: сильно развивающаяся квазиконкуренция между учащимися разлагала нравы и характер как обучаемых, так и обучающих. Качественный уровень профессорско-преподавательского состава стал сильно понижаться. Во взаимоотношениях все чаще наблюдались не характерные и не достойные в военной среде заискивание, угодливость, подобострастие, интриги, козни, карьеристические происки… Создавался тип выскочки-честолюбивца, а результатами неудач подобного обучения стали поражения русских войск в Русско-японской войне.
Многое изменилось после этой войны. Опыт ее ведения показал, что погубить полк или дивизию – много ума не надо, а вот обеспечить выполнение поставленной задачи с минимальными потерями своих войск и нанесением максимального урона противнику – военное искусство, то есть именно то, чему нужно учить в академии военачальников.
Особое внимание в ходе практических занятий уделялось проведению рекогносцировок местности и организации инженерного оборудования района предстоящих действий. Сунь-Цзы в трактате «Искусство войны» утверждал: «…кто не знает рельефа – гор, лесов, круч, оврагов, топей и болот, тот не может вести армию…»
Для получения указанной практики мы выезжали на север Санкт-Петербурга, в Осиновую Рощу. Эта земля была известна тем, что в разные года ею владели генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, графы Г. Г. Орлов и Г. А. Потемкин, фавориты Императрицы Екатерины II, по указанию которой в Осиновой роще была сооружена земляная крепость (редут) для защиты Санкт-Петербурга с севера.
В дальнейшем в 1821 году Император Александр I подарил мызу Осиновая Роща министру юстиции князю П. В. Лопухину, а последними владельцами Осиновой Рощи стали графиня Е. В. Левашова и княгиня М. В. Вяземская.
Обладая лесистой пересеченной местностью вперемежку с болотами и водными преградами, эта земля вполне подходила для обучения нас в определении наиболее важных рубежей и направлений маневра войск, проигрывании организации отдельных эпизодов операций и сражений, получения практики в составлении военно-статистического описания незнакомой местности.
– Местность – это та исходная данная, с которой умному командиру никак нельзя не считаться, – говорил нам полковник Владимир Васильевич Беляев, экстраординарный профессор академии по кафедре общей тактики. – Еще Петр Великий, готовясь к Персидскому походу 1722—1723 гг., «для осмотрения пути, дабы в переправах продолжения в марше не было» направлял свое войско впереди всех главных сил…
…Пройдут годы, и генерал-лейтенант В. В. Беляев после Февральской революции по болезни будет освобожден от должности начальника штаба 12-й армии и переведен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Примет участие в Белом движении в составе Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Затем окажется в эмиграции в Югославии в составе Особой испытательной комиссии при Зарубежных высших военно-научных курсах генерала Головина и покинет этот мир после начала Второй мировой войны…
В соответствии с имевшимся положением, по окончании обучающегося курса офицеры прикомандировывались на один год к образцовым частям для ознакомления со службой. Так было всегда, ибо отлучка от действующей армии негативно сказывалась на уровне подготовки выпускников – теория отставала от практики и иногда наоборот.
Выпуск обычно производился в октябре. Офицеры, окончившие академию по 1-му разряду, получали следующий чин, по 2-му – выпускались тем же чином, а по 3-му – возвращались в свои части и в Генеральный штаб не переводились. Армейские офицеры переводились в Генеральный штаб с тем же чином, а мы, артиллеристы, а также инженеры и гвардейцы – с повышением (причем последние еще и со старшинством в последнем чине).
За отличия в учебе в академии я получил звание штабс-капитана, как и мой хороший приятель, Михаил Гордеевич Дроздовский, древний дворянский род которого дал России много военных, служивших в Русской армии и воевавших, еще в шведских и турецких войнах, с Наполеоном, на Кавказе, в Крыму…
– Россия еще заявит о себе, а японская драма останется лишь трагической случайностью в ее истории! – утверждал Дроздовский. Участник Русско-японской войны, он знал, о чем говорил…
…Не так видел историю своей страны этот героический человек. Не приняв Октябрьский переворот, он станет одним из видных организаторов и руководителей Белого движения на Юге России, первым в истории Белого движения генералом, открыто заявившим о своей верности монархии. Единственный из командиров Русской императорской армии, сумевший сформировать добровольческий отряд и привести его организованной группой с фронта Первой мировой войны из Ясс в Новочеркасск на соединение с Добровольческой армией в начале 1918 года. В конце октября 1918 г. близ Иоанно-Мартинского монастыря на Ставропольщине будет ранен в ступню и, несмотря на все принимаемые медицинские меры и личный контроль Деникина за состоянием его здоровья, рана загноится. При первых признаках заражения крови Дроздовскому будет сделано несколько операций, но безрезультатно, начнется гангрена. В декабре 1918 года находившемуся еще в ясном сознании Дроздовскому будет присвоено звание генерал-майора, но уже к концу месяца в полубессознательном состоянии его перевезут в клинику Ростова-на-Дону, где он скончается в мучениях в первый день 1919 года…
* * *Для прохождения цензовой службы я был определен командиром 1-го дивизиона Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, дислоцирующейся в Санкт-Петербурге, командование которой принял несколько месяцев назад генерал-майор Головачев Алексей Дмитриевич. Круглолицый, со слегка подернутыми сединой висками и прищуренным взглядом, он походил, на первый взгляд, на предобрейшего дядьку, который никогда не то что руку не поднимет на своих «племянников – подчиненных», но и слова грубого не скажет! Но первые впечатления мои оказались не вполне верны.
– Господин штабс-капитан! Расскажите мне об истории и славном боевом пути нашей бригады!
Я, честно сказать, впал в ступор. Сейчас, прожив достаточно много лет, я осознаю, что каждый военнослужащий, получивший указание прибыть к новому месту службы, просто обязан ознакомиться с историей своей новой части, хотя бы и по открытым источникам. Но тогда я этого не понимал и не сталкивался с такими подходами в предыдущие годы службы.
– Я не знаю, Ваше превосходительство, – ответил я и опустил голову, понимая, что сейчас получу форменный разнос. Так и случилось.
– Что?! Вам доверено командовать дивизионом бригады, и Вы не знаете историю нашего соединения?! Вы первый, кто ее возглавит в случае гибели командования до назначения новых должностных лиц, и не знаете, что это за бригада?! Позор! Ну, хотя бы структуру бригады и дивизиона Вы знаете?
– Так точно! – ответил я слегка поникшим голосом.
– Докладывайте! И не надо теряться, – уже более спокойным тоном ответил он.
Подбодренный, я четко доложил, из каких составляющих построена бригада, какова структура дивизиона, его боевой и численный состав, а также общие задачи, решаемые им в мирное и военное время.
– Неплохо, – сказал командир бригады, – но историю выучить и доложить мне к исходу завтрашнего дня.
– Есть! – ответил я и с его разрешения убыл в расположение дивизиона.
Немногим позже от офицеров штаба бригады и своего дивизиона я узнал, что командир бригады всегда таким способом встречает вновь прибывших офицеров – будь то начальник штаба бригады или командир батареи. Суть этого способа состоит в том, чтобы вывести из психологического равновесия подчиненного, заставить его нервничать, посмотреть, как он будет реагировать на изменение тембра голоса командира, его движения, порывов. Меня как выпускника академии он проверил по истории, других – выпускников военных училищ – он экзаменовал по тактико-техническим характеристикам орудий, стоящих на вооружении бригады или артиллерии иностранных армий, другим вопросам. К каждому у него был свой подход…
…В дальнейшем генерал-лейтенант А. В. Головачев, став инспектором артиллерии корпуса, уйдет в отставку в апреле 1917 года, избежав репрессий со стороны новой власти, останется жить в Санкт-Петербурге, где умрет в 1932 году и будет похоронен на Смоленском православном кладбище в возрасте 74 лет…
* * *Наступил 1910 год. Последствия Русско-японской войны продолжали сказываться самым негативным образом на состоянии армии России. Не справившись с задачей восстановления потерянного на востоке имиджа русской императорской армии, ушел в отставку с поста военного министра Российской империи генерал А. Ф. Редигер, а его место вопреки всеми ожидавшегося назначения дяди императора, Николая Николаевича, стал генерал В. А. Сухомлинов, с приходом которого постепенно стала восстанавливаться мощь русской армии. В 1910 году, как вспоминал впоследствии Б. М. Шапошников, в то время слушатель Николаевской академии Генерального штаба, а в дальнейшем – Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, подготовка офицерского состава шла уже с учетом русско-японской войны.
В тот год Санкт-Петербург не ощущался как крупный морской и речной порт. Ежедневно неказистые приземистые буксиры тянули на себе караваны барж, наполненных дровами, по Неве, ее протокам, притокам, каналам. Особенно много потребляла дров Академия художеств, которая в своих старинных амосовских печах, предназначенных для обогрева помещений пневматическим способом, названных по имени их изобретателя полковника Николая Алексеевича Амосова, сжигала за зиму до двух барж дров. Эти печи, получившие известность в 1835 году, были также обустроены в Зимнем Дворце, за что Н. А. Амосов был награжден 2000 десятинами земли.
В июле 1910 года командование бригадой принял 45-летний генерал-майор Николай Петрович Демидов, уроженец Санкт-Петербурга, получивший образование в Александровском кадетском корпусе, 1-м военном Павловском и Михайловском артиллерийском училище, а также Михайловской артиллерийской академии и до этого командовавший 2-м дивизионом нашей бригады.
В отличие от своего предшественника, обладая мягким характером, что объясняется, скорее всего, отсутствием боевого опыта и принадлежностью к Свите Его Императорского Величества, он не смог проявить себя истинным командиром и возглавлял бригаду только до первых провалов Великой войны (Первой мировой)…
В дальнейшем Н. П. Демидов будет исполнять должность председателя хозяйственно-строительной комиссии для постройки Центральной научно-технической лаборатории Военного Ведомства, став в 1916 году генерал-лейтенантом, перейдет на службу в Красную армию. С 1918 года будет трудиться военным инженером-технологом в Управлении тяжелой артиллерии, а немногим позже – в Управлении усовершенствования материальной части артиллерии. В 1929 году перейдет в Научно-технический комитет Артиллерийского управления, где примет участие в создании Центральной научно-технической лаборатории Народного комиссариата тяжелой промышленности в Ленинграде. В начале 1931 года будет арестован органами Объединенного государственного политического управления при СНК СССР (ОГПУ при СНК СССР) как «участник контрреволюционной офицерской организации» и через 21 год после описываемых мною событий, в июле 1931 года, будет приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Через восемь месяцев его отправят в специальный лагерь особого назначения (аббревиатура – СЛОН), где год он проработает инженером, после чего его освободят досрочно и отправят в Рыбинск. Но несмотря на кажущуюся реабилитацию, его повторно арестуют и расстреляют в июле 1941 года…
«Основными двигателями к подвигу при всех тяжелых условиях, в которых русскому народу приходилось жить и действовать, были во все века: глубокая вера, преданность царю и любовь к родине», – писал в первом томе «Задач русской армии» Алексей Николаевич Куропаткин в феврале 1910 года, преданный анафеме за неудачи на Восточном фронте в Русско-японскую войну, Военный министр Российской Империи с 1898 по 1904 год, вплоть до начала указанной войны. И если любовь к родине еще оставалась, вера еще сохранялась, то преданность царю таяла с каждым годом.
– Запомните, мой друг: нелицеприятная история вынесет свой вердикт, более толерантный, нежели порицание современников, – говорил мне перед уходом в отставку полковник нашей бригады Борис Владимирович Пономаревский-Свидерский. – Пройдет немногим более 10 лет, и все это рухнет: и родина, и вера, и преданность царю. Почему, спрашиваете Вы? Да потому, что все против нас, против России. Когда Европе плохо, к кому она обращается?! К нам! Мы, русские, не раз ее освобождали от бремени разрух и согрешений, а что получали взамен?! Крым середины прошлого века! Япония – начала этого! И нам еще предстоит не раз ее спасать, жертвуя своим народом, своим достатком на благо всяких Англий, Франций, Италий, Германий… И они, эти наши «друзья», будут всегда стремиться расшатать нас изнутри, так как снаружи мы их всегда били! Надоело, я ухожу, по причине не того, что не знаю, как это исправить, но по причине того, что устал биться о стену, даже на своем уровне…