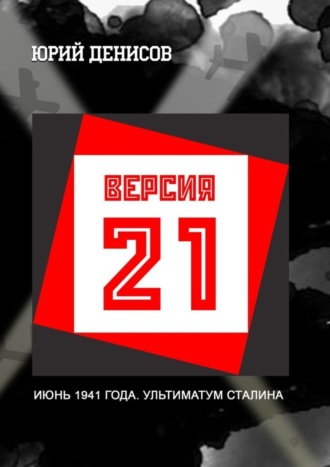
Полная версия
Версия-21
, в июне 1941 года – генерал-лейтенант танковых войск Вермахта, командир 56-го моторизированного корпуса, в последующем фельдмаршал, командующий группой армий «Юг». По свидетельству многих немецких генералов – лучший стратегический ум Вермахта во Второй мировой войне. Этот немецкий волчара, наделавший много бед на территории СССР, высказал в своей книге «Утерянные победы» очень ценное для нас наблюдение. Он определил, что развертывание вооруженных сил РККА на 22 июня 1941 года было не наступательным, не оборонительным, а развертыванием «на всякий случай». Манштейн так и не определил, на какой случай товарищ Сталин и его генштаб именно так развернули Красную Армию. А мы, в свете современного знания, знаем этот случай и доведем это знание до наших потомков. И здесь следует отметить, что вопли многих немецких генералов говорят о том, что нападение Германии на СССР было самой выдающейся и самый роковой авантюрой Гитлера. Версия №10 – «Эриха фон Манштейна»
Версия №11 – «Виктора Суворова»
Виктор Суворов – современный английский писатель, исследователь Второй мировой войны, собравший и опубликовавший огромное количество материалов, до него неизвестных советскому читателю. Под псевдонимом «Виктор Суворов» совсем не скрывается бывший советский офицер, сотрудник Главного разведывательного управления, один из самых знаменитых предателей нашего времени Владимир Богданович Резун. Как Резун он, несомненно, достоин расстрела, как Виктор Суворов – некоторого уважения. Главный мотив его версии: «Если бы Гитлер не напал 22 июня, то Сталин напал бы 6 июля 1941 года. Вокруг этой версии идут самые горячие споры по сей день. Мы ее не разделяем, у нас своя версия, единственная верная, изложенная в настоящем исследовании.
Версия №12 – «Упущенный шанс Сталина»
Автор этой версии – всеми уважаемый гражданский историк М. Мельтюхов. Очень обстоятельно и убедительно доказывает, что, предупредив нападение Гитлера, СССР мог изменить ход войны. Но многие исследователи полагают, что независимо от того, как бы Сталин ни начал войну: наступлением, обороной, отступлением и как-либо по-другому, все было бы так, как было. В 1941 году Гитлер был бы у ворот Москвы, а в 1945 году Сталин провел бы Потсдамскую конференцию в Берлине. –
Версия №13 – «С предателями»
По этой версии главным фактором поражения и катастроф 1941 года является предательство некоторых высших генералов и офицеров Красной Армии. Больше всего материалов по этой теме собрал и публиковал Юрий Мухин, исследователь, непрофессиональный историк. Кроме Ю. Мухина версию о предательстве в высших эшелонах Советской военной иерархии поддерживают и некоторые другие серьезные и не очень серьезные исследователи. Выводы, обоснования Ю. Мухина строятся на косвенных доказательствах. Прямых документальных исторических свидетельств в текущем историческом информационном потоке не обнаруживается.
Версия №14 – «Исследователя Иринархова Р. С. Благодушная беспечность. Отсутствие дисциплины и порядка»
Книги Иринархова Р. С.: «Агония 1941. Кровавые дороги отступления», «Непростительный 1941. „Чистое поражение“ Красной Армии». И без Иринархова существует много свидетельств о том, что железная государственная и воинская дисциплина была только на уровне высших эшелонов государства. Чем ниже, тем дисциплина становилась жиже. Жесточайший порядок существовал только в борьбе с врагами народа и в области отклонений от политических, идеологических, пропагандистских установок партии и государства. В области же боевой подготовки, обустройства войск, снабжении, воинской дисциплины все было не вполне благополучно. И это могло быть решающим фактором в наших поражениях в 1941 году. Многие военные исследователи обратили внимание на то, что в Красной Армии накануне войны порядок и дисциплина были совсем не такими, как их изображала партийно-политическая пропаганда, военные кинофильмы и военные песни. Особенно это зазвучало, когда в исторический оборот были введены письма рядовых красноармейцев, местных краеведов и гражданских очевидцев тех далеких событий. Получается, что в железном государстве Сталина Красная Армия была самым слабым звеном. Дисциплина в госаппарате, в народном хозяйстве, многих других сферах было тверже и сильнее, чем в Красной Армии. Так, по многим воспоминаниям, порядок в Бресте и Брестской крепости в последний день и в ночь перед войной больше напоминал туристический лагерь, чем воинский гарнизон. Одним из первых на это обстоятельство обратил внимание военный историк Иринархов Р. С. В его книгах приведено множество примеров отсутствия дисциплины и порядка в рядах РККА (рабоче-крестьянской Красной армии) в суровые грозные часы начала войны.
Георгия Карамзина поразило, как описывает Иринархов брошенную в первые дни войны колонну советских танков, 450 единиц, по дороге между Белостоком и Волковыском. При этом отмечается, что на танках не было следов участия в боях, они были брошены своими экипажами. Почему было точно известно, что 450 единиц техники? А потому, что от Белостока до Волковыска на каждом танке немцы написали номер. Таковы свидетельства очевидцев. Так было! Был героизм, но было и разгильдяйство.
Версия №15 – «Предсталение о начале войны Владимира Бешанова»
Советский морской офицер В. Бешанов служил в Полярном и в Севастополе, затем увлекся военной историей и из дилетанта стал профессиональным историком.
Версии Бешанова – это даже не версии, это моментальная фотография с морем крови и искореженной техники. Владимир Бешанов без особых погружений в теоретические, психологические, мистические рассуждения дает яркую картину поражений Красной армии накануне 1941 года. Самая характерная из его книг – «Танковый погром 1941 года». Его книги нужны тем, кто, не вдаваясь в анализ, хочет силой своей души и воображения пережить всю фантасмагорию Великой мировой войны.
Версия №16 – «Героическая»
Война началась трагически. Страшные, невиданные поражения. Огромное количество убитых, раненых и пленных. Но вместе с этим, было и другое. На Крайнем Севере встали насмерть герои Рыбачьего и Муста-Тунтури. До последней возможности держались герои Ханка, Либавы, Брестской крепости. С течением времени все более известными становятся героическая 41-я дивизия в Рава-Русском укрепрайоне под руководством генерала Микушева, которая не отступила ни на шаг, почти вся погибла. 99-я стрелковая дивизия полковника Дементьева в первый день войны в Перемышле не только удержала город, но отбросила фашистов на немецкую сторону.
Россия все внимательнее и глубже воссоздает вечную Славу памяти своих защитников. Сквозь огромный массив исторических материалов о начале войны неудержимо пробивается пламя выдающихся реальных героических подвигов советского народа; без жертвенности и героизма 1941 года не было бы громокипящих побед 1945 года. Да, многие, очень многие разбегались, отступали, бросали оружие, сдавались в плен. Но были герои, в большинстве своем неизвестные. Именно они сорвали «блицкриг» и повернули ход войны в победную сторону. Здесь уместно вспомнить слова У. Черчилля, сказанные им о героях-летчиках в битве за Англию: «многие обязаны тем, что сделали немногие».
Полковник Карамзин однажды без всякой надежды открыл в интернете программу ОБД МО России. И вдруг! О, чудо! На экране компьютера невиданным блеском засияло имя погибшего в 1941 году под Юхновым брата отца Карамзина – Петра. Георгий расплакался. Значит, помнит Россия. И в ее памяти теперь это навечно. Вечная Слава героям 1941 года!
Версия №17 – «Идеи и концепции Алексея Валерьевича Исаева»
Как-то вдруг внезапно на историческом военном небосклоне вспыхнула звезда историка-любителя А. В. Исаева, который очень быстро стал профессионалом. Начал он с двух книг «Антисуворов». Книги пустые, как барабан, но ход Исаева был очень верным. В результате Исаев получил доступ к архивам, в том числе и зарубежным, и приобрел широкий доступ у издателей и редакторов различных теле- и радиопрограмм. Все последующие книги оказались очень содержательными, информативными, по-читательски интересными, без надоевшей пропаганды и цитирования всевозможных мемуаров. Впервые в отечественной литературе были даны правдивые подробные описания многих сражений и битв Великой Отечественной войны. Исаев подкупил Карамзина тем, что в описании битв и сражений не было никаких противоречий, за которые цеплялся ум Карамзина у многих других авторов. Все было выверено, все логично, все соответствовало здравому смыслу. И никакой залихватской пропаганды. За все это Карамзин очень полюбил Исаева и собрал полную коллекцию его книг. Конечно, и Исаев позволил себе порассуждать о некоторых высоких материях, главное в которых следующее. В 1941 году все было правильно. Правильно и грамотно отступали, правильно и профессионально наносили контрудары, а причины поражения – в том, что, мол, не успели развернуться, опоздали с развертыванием и сосредоточением войск, неправильно сложили структуру механизированных корпусов и так далее. С этим многие спорят, но это не умаляет значение его книг. По мнению Карамзина, Алексей Валерьевич Исаев должен быть одним из авторов современной истории Великой Отечественной войны.
Версия №18 – «Александра Николаевича Осокина. Великая тайна Великой Отечественной»
Первый удар по сознанию: это абсолютная чушь – переброска войск Сталиным к Ла-Маншу, войск Гитлера – в Иран и Ирак. Во-первых, никакой тайны здесь никогда не было. Еще в 1962 году в книге Пауля Кареля «Гитлер идет на восток» солдаты Вермахта 21 июня 1941 года в лесу под Брестом спокойно обсуждают эту тему. Во-вторых, перед войной эта версия широко гуляла в германской и международной прессе. И, как доказали многие историки, эта версия была частью общего немецкого плана дезинформации Сталина в целях маскировки внезапного удара по СССР. Никаких прямых доказательств реализации такого плана не было и нет. И сам Александр Николаевич Осокин это подтверждает. Даже такой матерый альтернативщик, как Марк Солонин, определил книги Осокина как «мозгоимение». Но все, как понял Карамзин, оказалось чушью только на первый невнимательный взгляд. А дело вот в чем. Да, официальные круги России иногда склонны издавать, печатать, делать фильмы, книги, телепередачи по всякой исторической чепухе, чтобы замаскировать до сих пор скрываемую истинную суть. Похоже, что и сам Александр Николаевич все это прекрасно понимает. И название его книги, и, главное, его версия, – это только декоративное прикрытие того главного, что содержится в книгах Осокина. А главное в том, что Александр Осокин дал очень много интересных фактов, собрал очень много неоспоримых исторических документов, которые очень широко и глубоко расширяют наши знания и наше понимание о предвоенном периоде и начале войны. К сожалению, широкая военно-историческая общественность не отнеслась серьезно к книгам Осокина. Пересмотра многих представлений не произошло. И в своем исследовании для потомков Карамзин включил целый ряд научных открытий Александра Николаевича Осокина.
Версия №19 – «Версии М. С. Солонина о начале войны»
М. С. Солонин – инженер-конструктор из Саратова. Неожиданно сильно и ярко проявил себя на ниве военной истории. Исследования его всегда объективны, соответствуют здравому смыслу, придраться не к чему. Он – самый честный, самый глубокий исследователь начального периода Великой Отечественной войны. А также самый бесстрашный и бескомпромиссный. Главное у Солонина: война готовилась, к войне были готовы. Нападение Вермахта в том виде, что случилось, не ждали. Причины и обстоятельства разгрома войск Красной Армии в начале 1941 года лучше Марка Семеновича никто не изложил. Достоин ордена «За честь и правду». Последняя его книга, где версия Марка Семеновича четко и ясно изложена – «Июнь 41-го. Окончательный диагноз». Но окончательный диагноз давать рано. Нужен консилиум. Консилиум историков, которые сегодня еще не родились. Несмотря на громкие заявления патриотов – не трогать простой народ, не трогать рядового солдата, Солонин впервые в военно-исторической литературе определил вину рядовых бойцов – нежелание сражаться за идеи коммунизма, за идеи Сталина. По соотношению военных потерь убитыми, ранеными и взятыми в плен он ввел понятие «коэффициент стойкости». По итогам Первой мировой войны самый высокий коэффициент стойкости – 0,95 – оказался у русской императорской Гвардии и русского казачества. По первому периоду 1941 года коэффициент стойкости оказался гораздо ниже. Карамзин этим заинтересовался и по всей Великой Отечественной войне провел исследования в разрезе по национальностям. В первых рядах оказались тувинцы, осетины, евреи. Но вскоре Карамзин эти изыскания прекратил, определив весь народ и его армию как Советский народ и как советского солдата. Именно Советский народ победил в Великой войне.
Версия №20 – «Версия государственного официоза»
Несмотря на то, что в развитии России на протяжении весьма короткого периода сменилось несколько эпох: от Ленина к Сталину, от Сталина к Хрущеву, от Хрущева к Брежневу, от Брежнева Горбачеву, от Горбачева к постсоветской России, отношение государственной власти к военной истории России остается неизменным. Краткая концепция: восстановить Победу, забыть поражения, оставить без серьезной критики все мифы и легенды, созданные на протяжении многих лет государственной политической пропаганды. Любые критические замечания рассматриваются как фальсификация военной истории России. И при этом на сегодняшний день Россия остается единственной страной в мире, где нет официальной истории Великой Отечественной войны. Очень много говорят о фальсификации нашей военной истории. А официального труда нет. Как можно фальсифицировать то, чего нет? И вот над просторами России мечутся различные суждения, версии, предположения, а истины как не было, так и нет. При этом ни в школьных учебниках, ни в современной научной военной истории на сегодняшний день истории Великой Отечественной войны на государственном уровне тоже нет. Даже немцы спустя более семидесяти лет после окончания Второй мировой войны издали наконец-то свой десятитомник, который, к сожалению, пока еще на русский язык не переведен.
И вот, в результате самодеятельной инициативы наших героев-дилетантов, появляется 21-я версия: Великая Отечественная война началась в 3.15 утра 22 июня в Севастополе.
Но исследование этой версии привело наших героев к очень и очень неожиданным результатам. И – не только по Севастополю.
Расследование зашло так далеко, что друзьям открылись неизвестные тайны общего начала Великой Отечественной войны.
«Мой дух не изнемог во мгле противоречий,Не обессилел ум в сцепленьях роковых.Я все мечты люблю, мне дороги все речи,И всем богам я посвящаю стих».Рано утром на рассвете,Когда мирно спали дети,Гитлер дал войскам приказ.С. Михалков
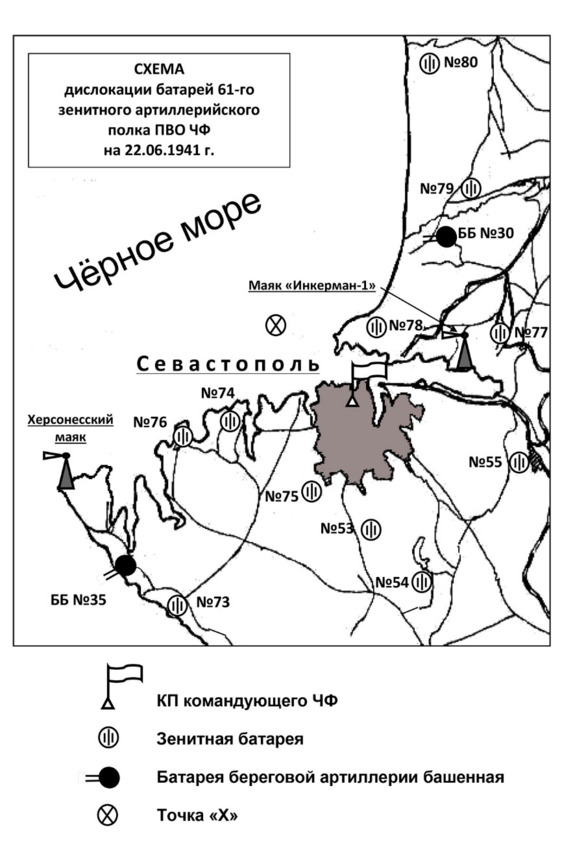
ГЛАВА 2. Исторический клуб
Севастополь в июле. Православный Севастополь. Матросский бульвар. Исторический клуб. Две зенитчицы. Первое знакомство с Адлером. Вопросы множатся. Открытие фонда генерала Жилина. Баллада о красных маках. Военные музеи Севастополя. День военно-морского флота. Совместный парад.
Июль полыхал своим летним пожаром. Никуда не денешься, самый жаркий месяц в Севастополе. Температура моря и воздуха одинаковая, и все под +30°. Но главным открытием севастопольского июля всегда были девушки и женщины Севастополя. Все уже были одеты по-летнему. Конечно, это было больше раздевание, чем одевание. Но именно это и восхищало. Девушки и женщины Севастополя всегда восторгали гостей города, откуда бы те не приезжали. Севастопольцы долго вспоминали эпизод с одним арабским шейхом, которого как возможного инвестора доставил в город начальник управления внешнеэкономических связей Михаил Юрлов. Арабский шейх давал интервью на севастопольским телевидении, но о чем бы его ни спрашивали, ошарашенный шейх поднимал глаза к небу, целовал кончики пальцев и непрерывно бессвязно лепетал о красоте севастопольских девушек. Никаких инвестиций, конечно же, не было, но память о влюбленном в севастопольских девушек шейхе осталась.
В жаркие июльские дни Георгий Михайлович Карамзин просыпался раньше. И в этот день немного до восхода солнца со щебетом и гамом птиц Георгий открыл глаза. Но оказалось, что сегодня не он проснулся первым. На кухне громко звучал голос его двоюродной сестры Екатерины Петровны, которая за долгие годы, наконец-то, удосужилась посетить Севастополь и своего дорогого брата. Тихонько приведя себя в порядок, Георгий заглянул на кухню. Там, в божественном экстазе, стоя перед кротко сидящей Ольгой Сергеевной, вела свой монолог Екатерина Петровна.
Карамзин знал, что Катя с возрастом ушла в божественные выси и много времени уделяла православным святым божественным местам и божественным размышлениям, но такую экзальтацию Георгий наблюдал впервые. Екатерина с восторженным упоением рассказывала о святых местах, о храмах и соборах Севастополя. Конечно же, она посетила Свято-Владимирский храм на Херсонесе, место крещения Руси. Об этом она знала и раньше. Но в Севастополе она прикоснулась и ко многим другим Святыням, о которых и не предполагала, – пещерный храм святого Климента со всем окружением: монастырем, старинным кладбищем, пещерами монахов, – все это произвело на нее очень глубокое впечатление. Все услышанные там ею истории тронули ее до слез. Не меньший восторг она испытала и при посещении Георгиевского монастыря на Фиоленте. Один из монахов, ощутив ее благоговейное отношение ко всему, что ее окружало, задержался возле нее и рассказал ей историю этого святого места: и про монастырь, и про пещерную церковь, и про крест на скале, и про посещение императорами России. Съездила она и в Свято-Никольский храм на Северной стороне рядом с Братским кладбищем первой севастопольской обороны. Сама, без Георгия, съездила к церкви Вознесения на Байдарах, отстояла воскресную службу в самом древнем городском храме – старинной церкви Двенадцати Апостолов в Балаклаве. Главные соборы города – Покровский, Владимирский, Петропавловский – посещала часто. На праздник святого Ильи прослушала концерт колоколов Покровского собора. Племянник Екатерины и сын Георгия, Олег, свозил ее в пещерный город Эски-Кермен, и там состоялось очередное божественное открытие – храм «Трех Всадников»: внутри огромного валуна – христианский храм с древними фресками. «Бывает же такое!» – крестясь, повторяла Екатерина.
В этот день она уезжала. И вот, не смогла не излить душу перед своими родственниками. Ольга и Георгий с глубоким вниманием выслушали Екатерину Петровну. И Георгий вдруг вспомнил, что, по теории академика Фоменко, Иисус Христос родился в Крыму, на Фиоленте. И первым порывом было рассказать Екатерине об этом, но вовремя остановился, сообразив, что новаторские теории Фоменко не для сознания и не для души обычной православной русской женщины из глубин России. И, напоив Екатерину чаем, стали собирать ее в дорогу. Семья проводила Екатерину Петровну, отправила ее машиной в Симферопольский аэропорт, и Георгий Михайлович, стряхнув родственные чувства, вернулся к своим севастопольским обстоятельствам.
Надвигался день флота. Этот праздник в городе был, пожалуй, самым любимым, самым радостным, самым многолюдным, самым оживленным – от утреннего парада до вечернего салюта. И, как обычно в июле, где-то за неделю до дня флота собирался тесный круг друзей – любителей истории под председательством старого заслуженного адмирала Железнова Аркадия Ивановича. На этот раз место для встреч определили стихийно: в самом центре города, в двух шагах от площади Нахимова, на улице Ленина (до революции – Екатерининской), в кафе «Искринка». Это – бывший дом потомственного дворянина А. А. Горенко, участника обороны Севастополя 1854—1855 г.г., деда знаменитой русской поэтессы Анны Ахматовой, где она часто гостила. В память об этом на доме – мемориальная доска, установленная к 100-летию со дня ее рождения.
Здесь все дышало историей: Графская пристань, площадь и памятник Нахимову, Приморский бульвар, Матросский бульвар с памятником Казарскому, подвиг которого Карамзин считал одним из выдающихся подвигов военной истории, музей Черноморского флота, старинная гарнизонная церковь святого Архистратига Михаила, Екатерининский сквер с памятником Екатерине II. И над всем этим историческим великолепием на центральном холме города высится и сияет золотым крестом Владимирский собор, усыпальница великих адмиралов: Лазарева, Корнилова, Нахимова и Истомина. И по истории Великой Отечественной войны – все рядом: штаб флота, горком, горисполком (во время войны – штаб ГКО, городской комитет обороны).
Друзья не виделись, не встречались целый месяц. Заседание военно-исторического клуба было назначено на вечер, но Карамзин захотел встретиться с друзьями пораньше, побыть с ними одними, обсудить кое-какие набежавшие вопросы, и он начал осторожно дозваниваться до друзей. Победимцев объявил, что он занят, что у него до вечера еще две экскурсии, и что Карамзин будет иметь счастье видеть его только вечером. А вот Владимир Иванович Орлов быстро согласился и, как показалось Карамзину, согласился с удовольствием.
Определили место встречи – Матросский бульвар. И через час двое друзей уже пожимали друг другу руки на Матросском бульваре у памятника капитан-лейтенанту Казарскому. Это был первый памятник в честь героев Севастополя. В сознание била красивая великолепная надпись – «Потомству в пример». Коротко и четко, на века. А подвиг действительно был незаурядный. Парусный бриг «Меркурий» под командой Казарского, 18 пушек, в рейдовом дозоре вступил в бой с двумя турецкими фрегатами, у которых на двоих было 184 пушки, – 10-кратное превосходство! И не дрогнул, и не сдался. Фрегаты бежали. У памятника появился взвод курсантов во главе с лейтенантом. Лейтенант расположил своих подопечных и прочитал им необычную лекцию. Друзья, с нежностью глядя на курсантов, задержались послушать. Лейтенант ничего нового не сказал. О подвиге Александра Ивановича Казарского в городе знали все. А вот о его дальнейшей судьбе и некоторых сопутствующих его подвигу обстоятельствах знали немногие. Да, император Николай I наградил его Георгиевским крестом, присвоил ему чин капитана I ранга, определил новые воинские регалии к его дворянскому гербу. Да, все так. Но было и другое. Рядом с героизмом – трусость и измена. В то же время, в таком же дозоре, такой же бриг «Рафаил» под началом такого же русского морского офицера Стройникова не принял боя, спустил Андреевский флаг и сдался в плен. Император не лишил его чина и дворянства, но и запретил ему жениться, чтоб у него не было потомства. Ну, и об обстоятельствах ужасной смерти капитана I ранга Казарского историки и писатели предпочитают не распространяться. Подвиг командира сияет в веках, а вот команда, простые матросы, забыта. Их имен на памятнике нет. Большое спасибо нашему севастопольскому писателю Геннадию Черкашину, который в своей книге «Бриг «Меркурий» вполне подробно исследовал этот подвиг, не забыв и про подвиг команды. Эту книгу с дарственной надписью автора Карамзин благоговейно хранил в своей домашней библиотеке.
Появление группы молодых курсантов навеяло в разговор друзей воспоминания о собственных незабываемых курсантских годах. В 1956 году XX съезд коммунистической партии, раскритиковав культ личности Сталина, позволил сыну репрессированных мечтать о военном училище. Ни о чем другом мечтать было нельзя. Отец, служащий конторы «Заготзерно», получал 80 «дореформенных» рублей, мать, учительница, – 120 рублей. И так много только за то, что ночами просиживала над горой школьных тетрадей. Вот и отправился Георгий из своего медвежьего угла в один из прекраснейших городов на свете.
Ну а Орлову, питомцу Ленинградского нахимовского училища, сама судьба велела продолжать военно-морскую карьеру. Нахимовцев во все военно-морские училища принимали без экзаменов. И Орлов выбрал Ленинградское высшее военно-морское пограничное училище, а Карамзин – высшее военно-морское инженерное училище. Прибыв в Ленинград, выскочив из трамвая на Литейном, Георгий обнаружил перед собой огромное здание – здание МВД, как объяснил ему случайный прохожий. Именно здесь начиналась улица Каляева, которая вела к училищу. «Да, – подумал Георгий, – это знак, от судьбы никуда не уйдешь!» Тяжелые предчувствия сжимали душу. Но все обошлось. Как они с матерью и ожидали, на мандатной комиссии прозвучал вопрос: «Почему родился в Магадане?» Легенда была готова. Георгий рассказал членам комиссии о «Хетогуровском» призыве – «Женщины – на Колыму!» Среди членов комиссии оказались дальневосточники. Забыв о Георгии, они ударились в собственные воспоминания, а минут через десять председатель комиссии их остановил и, обратив взор на Георгия, объявил ему, что он принят. Так началась военная карьера Георгия Михайловича Карамзина.

