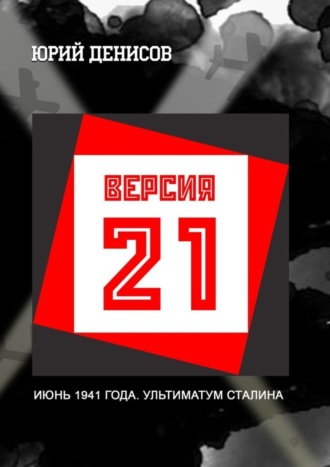
Полная версия
Версия-21
Был упомянут Карамзиным и музей инженерных войск, и скромный военно-медицинский музей на территории госпиталя Черноморского флота. Как памятник русского военно-фортификационного искусства сохранилась 30-я береговая батарея на Мекензиевых горах. А на месте взорванной в июле 1942 года 35-й береговой батареи создан музейно-мемориальный комплекс как памятник тем трагическим событиям, которые произошли в этих местах в последние дни обороны. Под скалами Балаклавы, в подземных штольнях советской базы подводных лодок создан подземный музейный комплекс, или музей «холодной войны». В горе у местечка Алсу под Балаклавой сохранились надземные и подземные сооружения огромного комплекса «объекта №221» – защищенного командного пункта южного направления Варшавского пакта – как память об огромных оборонных возможностях Советского Союза.
Много еще о чем успели поговорить московские и севастопольские любители военной истории. Но всему приходит конец. Прощаясь, по поручению адмирала Карамзин вручил гостям билеты на завтрашний совместный русско-украинский парад военно-морских сил в честь Дня военно-морского флота России. На том расстались. Георгий спустился на площадь Нахимова, там всегда дежурили ночные такси, и отбыл домой.
Карамзин с утра поздравил друзей, друзья поздравили Карамзина. Орлов, как обычно, проводил День флота в Балаклаве со своими военно-морскими пограничниками, а Георгий, выполняя поручение адмирала Железнова, должен был сопровождать московских гостей на военно-морской парад в Севастополе. Победимцев не очень стремился на парад, но неугомонная Элеонора Романовна, которая умудрилась попасть в оргкомитет по проведению культурных мероприятий на День флота, не дала ему надеть его скромный гражданский костюмчик, а заставила облачиться в парадный мундир со всеми орденами и медалями и перепоясать себя парадным ремнем с офицерским кортиком.
По недавно сложившейся традиции это был совместный парад: парад ЧФ России и военно-морских сил Украины. И хотя день флота Украины был в августе, из уважения к древней глубокой истории Черноморского флота совместный парад проводился в День флота России. Никто не мог знать, никто не предчувствовал, что в современной истории двух стран это был последний совместный парад. Не пройдет и полугода с небольшим, как грянет Русская весна, и в отношениях двух флотов, как и двух государств, пройдет глубокая трещина. А пока все нормально. Правда, украинские моряки всегда завидовали русским, у тех – и форма получше, и квартир для них побольше строили, и оклады выше, и приличнее заграничные командировочные они получали. Все хорошо, конечно, но приличные доходы севастопольских военных моряков поднимали цены на местных рынках. И, как пожаловались Карамзину московские гости, успевшие до парада заглянуть на центральный рынок Севастополя, цены там оказались выше московских. Погода не подвела. Георгий и Эдуард встретились на Приморском бульваре за несколько минут до начала парада. На парадной тужурке Карамзина кроме двенадцати медалей поблескивали два ордена, один – за достойное восстановление главного ракетного арсенала Северного флота после известных событий, связанных с его взрывом в балке Окольная под Североморском.
Парад прошел как обычно. Расцвеченные флагами корабли, ракетные залпы, десант с атакой морской пехоты и высадка на воду парашютистов, десант с яркими разноцветными парашютами. Все берега Севастопольской бухты были усеяны народом. И Северная сторона с ее равелинами, и Южная с ее Хрустальным мысом и Артиллерийской бухтой. После парада на площади Нахимова была выставка боевой техники, полевые кухни, сто грамм «наркомовских», советские военные песни. Элеонора Романовна всех бросила и умчалась проводить концерты на Приморском бульваре и готовить большой вечерний концерт на площади Нахимова. А Эдуард и Георгий в ресторане «Севастополь» дали праздничный обед московским гостям.
В 16 часов с аэродрома «Бельбек» улетал в Москву военный борт с делегацией главного морского штаба министерства обороны России. И московские военные историки улетали вместе с ними. У гостиницы на центральном холме, с видом на Владимирский собор, в последний раз фотографировались. Подошла машина и умчала гостей на аэродром.
Изрядно подустав, друзья разъехались по домам. Отдохнув в прохладе своей квартиры, Карамзин поставил на «видеодвойку» один из своих любимых военных фильмов о летчиках и моряках Северного флота – «Торпедоносцы». Знакомые места, родные пейзажи. Но дело еще и в том, что Георгий со своим инженерным батальоном по решению командования Северного флота обеспечивал всю военно-техническую часть фильма. Несколько военных самолетов времен войны из авиационного музея в поселке Сафоново были сгруппированы на военном аэродроме «Североморск-1», где и проводились натурные съемки. Ну а главный самолет Советского Флота – истребитель дважды Героя Советского Союза Сафонова —давно уже висел под потолком главного зала Центрального военно-морского музея в Ленинграде и в съемках фильма не участвовал.
Отгремел салют. Позвонил из Москвы генерал-лейтенант Алексей Алексеевич Макаров и сообщил, что долетели благополучно, еще раз тепло поблагодарил за радушный прием в Севастополе. Позвонил Победимцев. Сообщил, что он прекрасно поработал и что у него почти готов длинный перечень литературы и документов по теме первого налета. Несколько секунд помолчав, Эдуард попросил Георгия взять на себя работу по фондам и документам Севастопольского городского архива и особенно —Ивана Сергеевича Жилина, о котором их известил адмирал Железнов. К сожалению, фонды нашего городского архива почти совсем не оцифрованы, а без работы непосредственно в самом архиве не обойтись. Карамзин согласился и обещал эту часть исследований взять на себя. Друзья пожелали друг другу спокойной ночи. На том и завершили очередной День военно-морского флота в Севастополе.
После праздничного дня полковник Карамзин пребывал в безмятежном состоянии. Дети и внуки разъехались по пансионатам и турпоездкам. Но в безмятежном состоянии товарища полковника постоянно звенела, не давала покоя щемящая нота по истории первого налета. Пока ничего героического не вырисовывалось. Написано все красиво. Адмирал Кузнецов очень своевременно привел ЧФ в боевую готовность №1. Флот быстро собрался и под руководством адмирала Октябрьского отбил вражескую атаку неизвестных самолетов: три самолета сбили, остальные рассеяли. Через тридцать лет маршал Жуков похвалил ЧФ за этот подвиг. Но то было спустя тридцать лет, а 22 июня 1941 года начальник Генерального штаба Красной армии генерал армии Жуков подписал первые сводки главного командования, и в этих сводках – о Севастополе ни слова.
Но это был не единственный вопрос. Вопросов было много. Самый первый – время налета. С чего вдруг вся война – с четырех часов утра, а на Севастополь нападают в три? А силы налета? Пять самолетов – против главной базы Черноморского флота. А у главной базы – 100 зенитных стволов, 350 истребителей, неужели немцы сошли с ума? Почему летят с минами? Нам объясняли – чтобы закупорить флот в бухтах, а потом разбомбить. А почему сразу не разбомбить? Опыт Таранто, Перл-Харбора и многих-многих других атак говорит о том, что никто никого не закупоривал, а налетали и бомбили. А загадки с командованием? Где адмирал Исаков? Где генерал-полковник Черевиченко? Почему на 9-й Особый корпус вдруг именно после маневров 19 июня назначается генерал-лейтенант Батов? А куда пропал прежний начальник корпуса? А куда пропал командир дивизии десанта? А что это за маневры? 14 июня флот идет в северо-западную часть Черного моря, под Одессу. А почему именно туда? Мало других мест что ли, от Одессы до Батуми? И почему маневры начинаются именно в тот день, когда публикуется сообщение ТАСС о том, что война с Германией? Совершенно невероятно! И оказывается, что это – совсем не маневры флота, это маневры всего южного фланга Красной Армии с участием Одесского военного округа, Черноморского флота, Дунайской флотилии, 9-го особого стрелкового корпуса и, по некоторым исследованиям, 3-го воздушно-десантного корпуса. А кто руководил? А где итоги? По свидетельствам Кузнецова, Азарова, Жилина, это могло быть начало войны. Но, по другим свидетельствам, это могла быть демонстрация к принуждению Гитлера принимать решение, нужное Сталину. Карамзин глубоко вздохнул: «Да, тема оказалась непростой. Наскоком ее не возьмешь. Нужен серьезный системный подход с углублением в материал, с сопоставлением различных свидетельств и документов».
С этими мыслями Георгий Михайлович Карамзин несколько успокоился и приступил к обдумыванию плана системного подхода к, казалось бы, простой теме. И главные вопросы остаются: когда началась война, где началась война, как началась война?
Редко, друзья, нам встречаться приходится,Но уж когда довелось —Вспомним, что было, и выпьем, как водится,Как на Руси повелось.Ночь прошла, и пришел рассвет,Ветер стих и затихло море.Встало солнце и озарилоКрасные маки – души героев.Бог в небесах молча смотрелНа миллионы смертей.Красные маки – это глазаЕго убитых детей.Мать Богородица в жемчуге слезТихо несет свой покров.Красные маки – пролитая кровьЕе погибших сынов.Красные маки, красные маки,Горе и радость наших побед.Красные маки, красные макиБудут цвести тысячи лет.
ГЛАВА 3. Вальс мемуаров
Севастополь в августе. Всемирный День библиотек. Контрольная встреча. Информации очень много, концы не сходятся. Ночная прогулка. Неожиданные открытия. Тайна генерала Жилина и другие тайны.
Очень быстро в прошлое отошел июль. Последнее воскресение отгремело грохотом орудий и салютов совместного парада украинского и российского флотов. Как вскоре оказалось, совместный парад был последним совместным.
Георгий Михайлович Карамзин, стоя на площадке у Памятника затопленным кораблям, тихо напевал: «Скоро осень, за окнами август». Где-то далеко август мог напоминать об осени, но только не в Севастополе. Было по-летнему жарко. И ни вечером, ни ночью прохладней не становилось. Георгий, как это часто с ним случалось, возле моря размышлял. После развитого социализма при недоразвитом капитализме кое-что в городе изменилось: вывески, рынки, маршрутки, застройка береговой черты, новые особняки и здания. Но были островки городского пространства, в которых ничего не менялось. Такими островками севастопольского мира были библиотеки и архивы города. Музеи Севастополя Георгий Михайлович хорошо знал. Их в городе было где-то пятнадцать. А севастопольские библиотеки, за их советскую патриархальность, просто любил. Они напоминали ему далекое школьное детство, когда Георгия вместе с родителями мотало по городкам и медвежьим углам необъятной России. И всегда, и везде, на любом новом месте Георгий начинал свою новую жизнь с библиотеки. Они все были одинаковы. И, конечно же, с одинаковым набором газет, журналов и книг. Книги и журналы, скромные по оформлению, они были великолепны по содержанию. И сегодня, теплым августовским севастопольским днем, в Международный день библиотек, Георгий вспоминал с нежностью о своем далеком книжном прошлом.
В городе было где-то около сорока самых разных библиотек. Известность некоторых выходила за пределы города. Библиотека имени Льва Толстого была известна, помимо своей просветительской деятельности, широкими международными связями. И, конечно же, каждый флотский офицер России знал о севастопольской Морской библиотеке, основанной великим адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым. Были библиотеки: детская, техническая, медицинская. Все мужественно и стойко держались в условиях нового времени. Но недавно как-то вдруг открылось, что Карамзин не знал о целом культурном библиотечном пласте в культурно-исторических недрах своего города. Прав, жестоко прав адмирал Железнов! Ищем истину далеко и высоко, а настоящая россыпь здесь, рядом, в Севастополе. Оказалось, что очень ценной библиотекой располагает севастопольский городской архив. Очень интересная библиотека – при Музее героической обороны и освобождения Севастополя. Мало известна севастопольской публике и библиотека Музея КЧФ.
Карамзин вздохнул. Материалы этих и других библиотек были очень ценными, но технологии их использования оставались ветхозаветными. Ничего не оцифровано, никаких современных технических средств для работы с материалами. Карамзин взглянул на часы. Приближалось время встречи. По давней традиции библиотечный день он и его супруга отмечали в библиотеке своего района. Вот и сегодня Ксения Петровна Щербакова, заведующая библиотекой, пригласила их на склоне дня отметить свой профессиональный праздник. А дело в том, что и супруга Победимцева дружила с госпожой Щербаковой, и у них были общие интересы по организации различных встреч и конференций. Но уже без Орлова обойтись было никак нельзя. Орлов в этот день был один. Марию Степановну унесло с очередными родственниками куда-то за черту города. Место встречи и время были определены заранее, и Карамзин, бросив последний взгляд на великолепные виды Константиновского и Михайловского равелинов, освещенных предзакатным севастопольским солнцем, стремительно вышел к остановке на проспект Нахимова, прыгнул в маршрутку и через десять минут был на месте встречи. Орлов и Победимцев подтянулись организованно. Их встретили Элеонора и заведующая Ксения Петровна, ее хорошая приятельница, милая приятная женщина, скоро тридцать лет как стоящая на своем боевом посту. Все были хорошо знакомы, кроме одной молодой сотрудницы Юли, но, тем не менее, церемонно раскланялись, а дамы благосклонно приняли цветы и комплименты. После чего сотрудники закрылись на официальную часть в кабинете заведующей, а друзья отправились в читальный зал.
В читальном зале, кроме всего прочего, бушевала выставка детских рисунков. Друзья окинули ее медленным взором и как-то дружно все вместе задержались у листа ватмана с огромным зеленым танком с красной звездой на башне, ведущим огонь по дальним немецким позициям. Все поле у танка и вокруг танка было усеяно красными маками, картина называлась «Май 1944 года». Друзья переглянулись, вспомнили Ивана Боброва, заряженные сильным неожиданным впечатлением, устроились в уголке читального зала. Был один час до, как им объяснили, неофициальной части вечера, и друзья, не теряя времени, сосредоточились на обсуждении своей нынешней темы первого налета на Севастополь ранним утром 22 июня 1941 года. Но разговор должен был носить не общий характер. Темой должна была стать ситуация с первоисточниками. Но не со всеми, а только с мемуарами, воспоминаниями непосредственных участников и очевидцев тех далеких событий. За прошедшие два месяца дилетанты-исследователи изучили много материалов и, как всегда, получили больше вопросов, чем ответов.
Георгий Михайлович внимательно обвел взглядом присутствующих и, хотя в читальном зале, кроме друзей, никого не было, тихим приглушенным голосом начал свое сообщение: «Господа офицеры! Как вы, надеюсь, помните, при нашей последней встрече наш глубокоуважаемый адмирал Аркадий Иванович Железнов обратил наше внимание на то, что мы, витая в заоблачных исторических высях, ничего не знаем о своих местных исторических россыпях. Он, как вы помните, упомянул «Золотую коллекцию» Валерия Крестьянникова. И я направился в городской архив.
Городской архив меня и удивил, и порадовал. В «Золотой коллекции» – много прекрасных фондов наших севастопольских героев: Байсака, Пилипенко, Игнатовича, Неустроева, да – того самого командира батальона, разведчики которого водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Но по нашей теме – обширный фонд генерал-майора артиллерии Ивана Сергеевича Жилина, бывшего в июне 1941 года начальником Крымской зоны ПВО и командиром ПВО военно-морской базы «Севастополь». Материалы из фонда Жилина настолько своеобразны, что мы должны уделить им отдельное внимание. Открытием было и наличие в архиве очень редкой библиотеки. Там – книги Крымского издательства, изданные в пятидесятых годах. Это книги зенитчика Игнатовича, подводника Иосселиани, первого секретаря горкома ВКП (б) Бориса Борисова и первые книги редактора флотской газеты бригадного комиссара Павла Ильича Мусьякова. Книги Борисова отличаются в изложении фактов по мере их издания. У него я впервые прочитал, что 22 июня буксир «СП-12» тащил плавучий кран к месту падения самолета. А также – очень интересное сообщение о том, что еще до речи Молотова было выпущено обращение Военного Совета ЧФ об отпоре врагу. А какому врагу, Павел Ильич не уточняет. Но по отражениям интернет-форума Севастополя глухо звучит, что речь шла о Румынии. После речи Молотова самолет стал немецким, а затем в течение многих лет самолеты определялись как неизвестные. Совсем уж неожиданными для меня стали воспоминания подводника Иосселиани. До трех часов ночи молодые подводники спокойно танцуют, спокойно гуляют, и – никаких тебе тревог, никаких сборов, никаких БГ №1! Я упомянул о Севастопольском интернет-форуме. Там очень много материалов, но в большинстве своем они очень сомнительны. А теперь, очень кратко, хочу пройтись по хронологии наших источников. Первой книгой о первом дне войны в Севастополе, написанной в 1943 году, стала книга полковника Евсеева, командира учебного отряда ЧФ. Эта книга в том же 1943 году легла на стол адмирала Исакова, и Исаков наложил очень интересную резолюцию своему помощнику адмиралу Пантелееву: «Напечатать в „Морском сборнике“ в отрывках. И так, чтобы не было никаких дискуссий». Вот откуда началось сокрытие обстоятельств о первом дне войны в Севастополе. Книга, даже в отрывках, тогда не была напечатана. Появилась она в издании только в 1956 году, а что там осталось от рукописи, мы не узнаем. Но по содержанию можно понять, что ночью с 21 на 22 июня до раннего утра все было не так, как затем писали адмиралы.
Первой серьезной книгой о первом дне войны в Севастополе стала книга адмирала Азарова «Осажденная Одесса». Книга не привлекла внимания к Севастополю, так как писалась об Одессе, но первая глава книги была посвящена Севастополю. В это же время безуспешно пытался опубликовать свои мемуары генерал-майор Иван Жилин. В открытом доступе нет его материалов и сегодня. Все заиграло по-серьезному, когда в 1968—69 годах вышли материалы маршала Жукова и книги адмирала Кузнецова. Маршал Жуков в своих мемуарах начинает рассказ о войне с телефонного звонка от командующего ЧФ адмирала Октябрьского. И указывает время звонока – 3.17. А во втором издании, уже после смерти Жукова, время звонка уже другое – 3.07. А в книге адмирала Кузнецова «Накануне» звонок ему от адмирала Октябрьского определен в 3.15. Историки до сих пор ломают голову, почему Октябрьский звонил Жукову. Но вот в книге дочери адмирала Риммы Октябрьской «Штормовые годы» со ссылкой на дневники адмирала вполне четко говорится о том, что Октябрьский не звонил Жукову. Но также сообщается и о том, что в ночь на 22 июня в наркомате ВМФ не было адмирала Кузнецова и не было вообще никого из командования. Далее нам очень интересна книга генерала Моргунова «Героический Севастополь». Там – почти вся правда о горящих маяках. И, конечно же, книга адмирала Кулакова, члена военного совета ЧФ, «Доверено флоту». Не обойтись нам и без воспоминаний начальника штаба ЧФ адмирала Елисеева и оперативного дежурного ЧФ, в тот памятный день – капитана 1 ранга Рыбалко.
Итак, я вам, мои дорогие друзья, очертил круг свидетелей, очевидцев и участников, которые помогут нам по нашей теме. Очень во многом эти воспоминания и свидетельства противоречат друг другу, а иногда противоречат и здравому смыслу. Общее впечатление, что от нас больше скрывают, чем открывают.
А теперь – несколько слов о тех, кто был свидетелем, но ничего об этом не написал. Больше всех удивляет адмирал Исаков. Он за свою жизнь, и на службе, и в отставке, написал очень много. Но нигде и никогда он ничего не написал о первом дне войны в Севастополе и о том, где он был с 18-го по 22 июня. Адмирал флота Горшков, 22 июня в звании капитана 1 ранга, был в Севастополе, командовал бригадой крейсеров, но нигде и никогда не написал об этом ни строчки. Более того, как я уже говорил, в редактируемой им «Советской Военной энциклопедии» ни в одной из статей нет никаких упоминаний о налете на Севастополь немецкой авиации 22 июня 1941 года».
После речи Карамзина так же тихо заговорил Орлов: «Друзья, а все-таки официальные сообщения были. В речи Молотова в 12.15 было сказано, что немцы бомбили Севастополь в 4.00 утра. Молотов, как ни крути, – заместитель Сталина по Совнаркому и министр иностранных дел. Но был еще один нарком, участник наших событий – нарком НКВД Лаврентий Берия. По книге Риммы Октябрьской, со ссылкой на дневники ее отца, говорится о звонке Лаврентия Берии, еще до нападения немцев. У Берии версия налета совсем другая. Он обвиняет Октябрьского в том, что в Севастополе бомбили его, Октябрьского, самолеты. Этот разговор в интернете подтвердил адмирал Игорь Касатонов, который лично знал Октябрьского. Свидетельства двух других главкомов, Жукова и Кузнецова, официальными считаться не могут, так как во время написания мемуаров оба были «в глубокой отставке». Свидетельства всех фициальных лиц резко отличаются одно от другого. И мы помним, что вечером 22 июня по итогам боев была объявлена сводка главного командования, подписанная Жуковым. А в ней – ни слова о Севастополе.
На меня очень тяжелое впечатление произвели книги адмирала Кузнецова. Такое впечатление, что о разных флотах писали разные люди. Опубликованы воспоминания командующего Северным флотом адмирала Арсения Головко. Опубликованы очень своеобразные и подробные воспоминания начальника штаба Балтийского флота адмирала Юрия Пантелеева. Об обстановке на Черноморском флоте написано очень много, и ничего и никак не стыкуется. Об этом, я надеюсь, мы поговорим подробнее».
Орлов продолжает: «И вот что, мои дорогие товарищи! Я считаю, что наша история начинается с маневров, с неудачного десанта под Одессой, с исчезновения из событий адмирала Исакова и генерала Черевиченко, командующего Одесским военным округом. И здесь нам нужно внимательно изучить мемуары Маршала Матвея Васильевича Захарова, в те времена начальника штаба Одесского военного округа. У него много интересного: и о маневрах, и о создании Южного фронта, и о Директиве №1, и многое другое. Если бы не эти события, тема налета звучала бы по-другому. И позволю себе маленькое замечание относительно мемуаров наших военачальников. Писали их, как правило, наемные журналисты, мало сведующие в вопросах военной истории, военной и флотской жизни. Да еще под контролем военного отдела ЦК КПСС и главного политического управления СА и ВМФ. Здесь характерны воспоминания генерала Павла Ивановича Батова, в то время командующего 9-м особым стрелковым корпусом в Крыму, со штабом в Симферополе. Там, например, описано, как утром 22 июня немцы пробомбили штаб Стрелковой дивизии в Симферополе. И как после этого на столе перед Батовым и его офицерами лежат осколки бомб, а Батов думает: „Вот как начинаются войны, вот как гибнут люди!“ Все это – чепуха несусветная! Симферополь утром 22 июня никто не бомбил. А Павел Иванович Батов, до этого, прошел три войны и прекрасно знал, как гибнут люди. Думаю, что зачастую наши военачальники не только не писали свои мемуары, но даже и не читали их».
После Орлова в беседу вступил Победимцев: «Да, – молвил он, – ситуация для нас оказалась необычной. Кроме всего прочего, я попытался найти факты о налете на Севастополь в иностранных источниках. А их – нет. А вот, что есть. Генерал-полковник Франц Гальдер, начальник немецкого Генерального штаба сухопутных войск, написал в своем знаменитом дневнике, что военно-морские базы СССР не следует атаковать ни немецкими военно-морскими силами, ни немецкими военно-воздушными силами. Так в июне 1941 года и происходило. Русский исследователь Зефиров и немецкий исследователь Барр совместно издали книгу „Свастика в небе“, где подробно описали действия немецких ВВС в начале войны, в том числе и на Южном фланге. И в этой книге нет ни единого слова о налете на Севастополь. Налеты на Севастополь начались только 4 ноября, во время первого штурма, а до этого на Севастополь не упало ни одной бомбы. Русский исследователь Якубович провел тщательный анализ распределения сил люфтваффе в первый день войны. Ни одного самолета, по его данным, не было выделено для бомбежки военно-морских баз СССР. В ФРГ наконец-то вышла 10-томная „История второй мировой войны“, и там нет ни слова о налете на Севастополь 22 июня 1941 года».
Друзья помолчали, но долго молчать было некогда. Из кабинета директора стали доноситься шумы и звуки, свидетельствующие о подготовке неофициальной части международного дня библиотек. Но Эдуарду по его теме несколько минут все-таки дали. Эдуард собрал материалы по обстановке вокруг Черноморского флота в ночь на 22 июня и быстро четкой скороговоркой изложил свои впечатления: «У меня, как и у вас, господа офицеры, больше вопросов, чем ответов. Несколько слов о флотских маневрах. Никогда они не проводились в такое время. О целях и задачах этих маневров никто не пишет. И только в книге адмирала Азарова „Осажденная Одесса“, изданной и до Кузнецова, и до Жукова, четко и ясно написано, что главной задачей учений флота была отработка высадки десанта с кораблей на берег в небывалых доселе размерах, в составе целой дивизии. Официальная история и историки официального направления этот факт яростно отвергают. И никогда нигде не пишут об артиллерийских стрельбах, взаимодействии с подводными лодками, о совместных действиях с авиацией. А в воспоминаниях летчика Николая Денисова одной фразой упомянуто, что основной задачей их истребительного полка, базирующегося на аэродроме под Евпаторией, скорее всего это аэродром Саки, было прикрытие десанта с воздуха. Но о том, как, что и где он прикрывал – ни слова. У одного из авторов промелькнуло, что во время маневров над флотом висели немецкие разведывательные самолеты. А бороться с ними никакой возможности не было, да никто, собственно, и не боролся».

