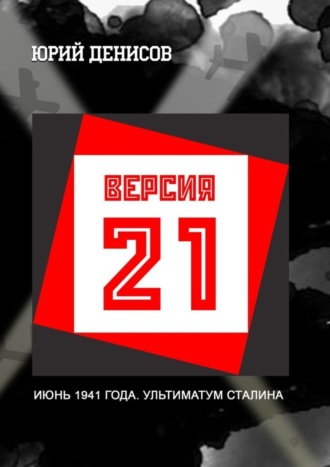
Полная версия
Версия-21
Вдохновленный такими мыслями, Эдуард быстро завершил утренние процедуры и утренний завтрак и, прикоснувшись щекой к жене, без лишних слов и так же молча проведя по загривку друга Кобы, Эдуард устроился за рабочим столом и погрузился в дебри интернета. Вперед, к новым открытиям! Сначала надо узнать все, что знают все. И только потом выстроить итоги своего исследования. Время пошло. Но чем глубже он погружался в материал, тем мрачнее становились его мысли и тяжелее становилось на душе.
Набирая ключевые слова о памятнике жертвам первого дня войны в Севастополе и улице Нефедова, тогда Подгорной, Победимцев обнаружил несколько заметок из главной севастопольской газеты «Слава Севастополя». Оказалось, что пытливые умы севастопольцев задолго до него, «великого исторического исследователя», пытались понять и объяснить некоторые нестыковки вокруг всей этой истории. Оказалось, что, как и всегда знали севастопольцы, да, первых жертв было три. В реальной могиле на реальном кладбище: бабушка, мать и внучка. Но автор заметки открыл, что бабушка захоронена позднее и не была жертвой первого налета. Также корреспондент установил: в севастопольском городском загсе люди, чьи фамилии перечислены на памятнике как первых жертв войны, не были записаны как погибшие от взрыва мины. Причины смерти указаны самые разные. К удивлению корреспондента, ни отдельных могил, ни братского захоронения он не обнаружил. Но открылось и еще одно обстоятельство. Оказывается, в тот же день погиб и затонул буксир ЧФ СП-12, который тащил за собой плавучий кран, который то ли в этот день, то ли позже, то ли на том же месте, то ли в другом, но тоже погиб. Всего погибли где-то более тридцати человек из состава экипажей буксира и крана. Заметки в газете были смутные, факты неясные и неопределенные. По фактам много противоречий.
Споткнулся Эдуард и на другом факте: некий эмигрант, проживавший в оккупацию в Севастополе, уже задолго после событий, будучи в Германии, тиснул в интернете заметку о том, что в июле 1942-го года, во время третьего последнего штурма немцы так внезапно ворвались в Севастополь, что все документы загса, как и много других документов НКВД, попали в их руки, и никогда в Севастополь уже не вернулись. Кстати, захват этих документов послужил провалом всей оставленной в городе группы подпольщиков, возможно, что это явилось причиной таинственной гибели и самого руководителя группы, старшего лейтенанта госбезопасности Константина Нефедова, а последующая группа подпольщиков Ревякина – это уже народная инициатива. Но как во всем этом разобраться?
Эдуард обескуражено прервал работу. Решил посоветоваться с друзьями. Позвонить Карамзину? Но, зная характер Георгия, Эдуард понимал, что здесь твердого мнения не будет, и решил сначала позвонить Орлову. Как бы то ни было, но здесь будет твердое решительное мнение. Так и случилось. Владимир Иванович, выслушав стенания друга, решительно объявил: исследовательскую работу в отношении жертв прекратить немедленно, никакого загса, никаких кладбищ, никакого разрывания могил. Нельзя – и все. Слишком сакральная тема. Время трогать ее не пришло. А пока знать, но забыть. Об обстоятельствах первого налета разберемся по другим признакам. Тем более что материала, как оказалось, много, очень много. Эдуард, недолго думая, с мнением друга согласился и, встав у окна, устремив взгляд на крест собора Святого Владимира, стал шептать молитву о памяти всех невинно убиенных.
Но день 21 июня продолжился, и друзья помнили, что вечером они договорились провести ночь с 21 на 22 июня где-нибудь в центре города под небом Севастополя, чтобы попытаться вжиться, ощутить атмосферу той далекой первой военной ночи. И где-то к середине дня друзья начали созваниваться.
По месту встречи было два варианта: Исторический бульвар, где во время войны, да и много после, располагался штаб противовоздушной обороны ЧФ и на крыше которого находилась так называемая вышка – наблюдательные пункт штаба ПВО ЧФ и Крыма под командованием полковника Жилина Ивана Сергеевича, или площадь Нахимова, в те времена площадь Ленина, с выходом к Памятнику затопленным кораблям в одну сторону и к Графской пристани – в другую. Коротко потолковав, друзья остановились на площади Нахимова.
В условленный час, глубокой ночью, друзья встретились на смотровой площадке у Памятника затопленным кораблям. Первое, что сделали, – перевели часы на довоенное московское время. И договорились до восхода солнца жить, говорить, наблюдать по довоенному московскому времени. Эдуард привез с собой большой светящийся морской компас, и с определением сторон света проблем не было.
По описаниям к двум часам ночи город был полностью затемнен и готов к бою. Горели маяки, но ни от Памятника затопленным кораблям, ни с Графской пристани их огней не было видно. Но сегодня это не играло какой-либо роли. Город, хотя и не был затемнен, был окутан непроглядной тьмой: не только контуры равелинов, но и очертания памятника в двадцати метрах не просматривались. Редкие облака открывали далекие мерцающие звезды. Луна никак себя не проявляла, и о ней как-то забыли. Море было спокойным и тихим, и только легкими ударами волн о набережную напоминало о себе. Было очень тепло, никакой прохлады. Казалось, что в природе, в атмосфере все было ровно так, как и семьдесят лет назад. Было очень тихо, и друзья почему-то говорили вполголоса, приглушенно.
В спокойных разговорах, в прогулке к Графской пристани и обратно прошел первый час. Три часа ночи —первое контрольное время. Ведь именно в 3 часа 10 минут – 3 часа 12 минут посты наблюдения уловили шум моторов неизвестных самолетов и, по-видимому, с 3 часов 15 минут до 3 часов 50 минут шел налет. О самом налете почти не говорилось, главное сейчас – вжиться в обстоятельства ночи, проникнуть в ситуацию. Друзья почти поминутно следили за временем. Вертели головами и на восток, и на запад. Ведь по официальной версии атаки шли с разных направлений. Главное впечатление: с 3-ех до 4-ех часов – не только никакого рассвета, но и никаких сумерек. С Графской пристани не только не было видно громады Свято-Никольского храма на Северной стороне, но и ничего не видно на противоположном берегу Южной бухты. Вывод несколько обескураживал. Наблюдатели, зенитчики, летчики, бойцы местной ПВО в такой темноте не могли видеть ничего. Как меняли темноту ночи лучи прожекторов, вспышки орудий и разрывы зенитных снарядов без практического эксперимента – не понять. Следовательно, к описаниям того, что многие очевидцы видели и то, и это, следует отнестись с некоторым сомнением.
И только в четыре утра, когда налет уже, несомненно, закончился, на востоке прорезалась слабая белая полоска. Но контуры окружающих берегов все равно не просматривались. Казалось, что до восхода солнца один час пять минут, это время можно провести в неторопливой прогулке и спокойной беседе. Но нет, в эту ночь не спали не только друзья, не спал Севастополь. Где-то около четырех у стены героев возле Вечного огня замерцали маленькие огоньки, как будто звезды с неба стали падать на площадь.
Друзья направились к Вечному огню, в отблесках его пламени увидели серьезных, сосредоточенных, молчаливых севастопольцев, мужчин и женщин, молодых и старых, в форме и по гражданке, которые зажигали небольшие свечи у Вечного огня, поднимали головы к небу, что-то говорили и с горящими свечами тихо расходились вокруг. Кто на Графскую, кто к Памятнику затопленным кораблям, а некоторые шли наверх к памятнику Казарскому. Пространство площади Нахимова заполнялось мерцанием огоньков горящих свечей.
Огоньков становилось все больше. Друзья медленно подошли к Вечному огню, у огня в форме 1941 года стояли краснофлотец и красноармеец. Это были не молодые юноши, а вполне взрослые мужчины. И это было правильным и верным. Ведь тогда призывались с девятнадцати лет и служили достаточно долго, около четырех-пяти лет. В руках у бойцов в стойке «к ноге» были старые трехлинейки с трехгранными штыками. Бойцы молчали. Перед ними на трех армейских табуретах стояли большие свечи, зажженные от Вечного огня.
Бойцы молчали, но все, кто подходил и зажигал свои маленькие свечки, поднимали глаза к звездам и негромко, но внятно, произносили имена своих павших на войне героев. Слышались украинские, еврейские, грузинские имена и фамилии. Больше всех, конечно, русских. Отзвуки слов уносились ввысь и растворялись в темном севастопольском небе. Одни подходили, другие отходили. Поток людей был многолюдным. Друзья, к своему удивлению, оказались впервые на этом церемониале и, постояв немного у огня, отдав честь Вечному огню и памяти героев, тихо отошли в сторону. К ним подошел знакомый фотограф из флотской газеты «Флаг Родины» и рассказал, что подобное священнодействие происходит уже несколько лет.
Были гитары, тихие военные песни, на Графской пристани пускали на воду кораблики. Были и другие торжественно-печальные действия. Что-то отсеялось, что-то осталось. Сегодня это – вот так.
Поговорив о ритуалах памяти погибшим, друзья вернулись на Графскую пристань, где, как и обещали астрономические таблицы, в 05.06 утра встретили восход севастопольского солнца. Говорить не хотелось, каждый переживал эту ночь по-своему. Выйдя на площадь и вызвав такси, друзья разъехались по домам.
Из коллекции историка-любителя инженера-полковника Карамзина Георгия Михайловича – 20 версий начала Великой Отечественной войны:
Версия №1 – «Детская»
Эту версию пятилетний Егорушка Карамзин в составе участников художественной самодеятельности детского сада озвучил по магаданскому радио в 1941 году, и так случилось, что на далеком колымском руднике Бутугычаг его услышал отец. С этой версией Георгий благополучно просуществовал, не задумываясь, детские школьные годы до самого ХХ съезда КПСС. С началом войны трехлетний Егор ознакомился в сентябре 1941 года, когда мать с Егором на руках из черного репродуктора на стене их маленькой комнаты услышала сообщение Совинформбюро об оставлении нашими войсками Смоленска: «Сегодня нашу бабушку взяли немцы», – с большой тревогой и большой печалью сказала мать Георгия.
После дня победы режим послабел, и мать с сыном отправились на рудник Бутугычаг. Там Егор узнал, что во время войны было много предателей и изменников Родины. Каждый день, утром – в забой, вечером – обратно по главной улице рудника, проходила колонна каторжан, человек четыреста. Как объясняли старшие – это были полицаи, старосты и другие изменники Родины в освобожденных от врага территориях. Там же в память Егора вошли понятия «власовцы», «бандеровцы». Власов еще не был повешен, Бандера – не убит. Но тогда детскую душу Георгия это не волновало. Вокруг был прекрасный мир чудесной природы и приключений.
Версия №2 – «Сталина-Молотова»
До смерти товарища Сталина речь В. М. Молотова, члена Политбюро ВКП (б), заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР – Совнаркома, то есть заместителя товарища Сталина, министра иностранных дел СССР, была главным определяющим фактором в общественном понимании обстоятельств начала Великой Отечественной войны. Третьего июля 1941 года Сталин в своем выступлении по радио развил и окончательно утвердил эту версию.
Речь Молотова 22 июня 1941 года очень надолго и очень твердо закрепилась в сознании советских людей. Полагать, что ее написал лично Молотов, нельзя. Несомненно, ее писали вместе – Сталин и Молотов. В историческом обороте текст существует в двух документах: черновой текст и текст, который произнес Молотов в своей исторической речи в 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года.
Тогда над содержанием речи никто не задумывался. Слово «война» всех оглушало. Все мгновенно изменилось в жизни каждого. Вдумываться и анализировать стали много позже. В целом оба текста одинаковы.
Очень сильно в сознание советских людей били слова о неслыханном вероломном нападении. Не менее чем за сутки до этой речи Молотов полдня провел в кабинете Сталина, принимая участие в выработке директивы №1, а в ней четко определенно: «22—23 июня возможно нападение Германии на Советский Союз». Получается, Молотов о нападении знал еще 21 июня. Армию предупредили, а страну – нет, что совершенно безответственно. Или возникает смутное сомнение, что за словами Директивы стоит нечто иное, чем предупреждение о войне.
Молотов говорит и о Румынии, и о Финляндии. По Румынии он прав, она начала военные действия вместе с Германией, а вот Финляндия 22 июня 1941 года не произвела против СССР никаких враждебных действий. Не выпустила ни одного снаряда, ни одной пули, не сбросила ни одной бомбы.
Очень сомнителен выбор Молотовым городов, которые бомбили немцы 22.06.1941 года. Ни один из этих городов не только в 4 утра, но и днем 22 июня немцы не бомбили.
Ни в коем случае не идя вопреки этой версии, в позднее сталинское время выходили героические, романтические книги и фильмы о войне: «Малахов курган», «Небесный тихоход», первый вариант «Звезды» по Казакевичу, «Дни и ночи» по Симонову. Вышли книги Казакевича, Соболева, Первенцева, Полевого, Кожевникова, Симонова. Несколько жестче, без романтического ореола, вышла в свет книга В. Некрасова «В окопах Сталинграда» (Сталинская премия 1952 г).
Заключительные слова из речи Молотова «Враг будет разбит, победа будет за нами» надолго врезались в память советских людей. — –
Версия №3 – «Народная»
С этой версией Егор познакомился в глухой смоленской деревне, в двухстах километрах от Москвы, где родителям было предписано жить после Колымы на родине отца. Песню «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война» пел одинокий солдат Ариныч, подыгрывая себе на ветхой гармошке. Запали в душу и другие песни – «Синий платочек», «Огонек».
Много позже эти песни и многие другие в приглаженном виде исполнялись на радио и телевидении. А тогда, сразу после войны – ведь в деревне не было радио и ни одного патефона – только одинокий солдат доносил до глухой деревни в песнях и поговорках незабвенную память о Великой Войне. Позднее стали проявляться и авторы песен. Так, по истории песни «Синий платочек» Георгий узнал, что автором песни был знаменитый Ежи (Юрий) Петерсбурский, он же автор романса «Утомленное солнце», и как оказалось, уроженец тех же краев – Белосток, Бело-Подлеска, откуда вышел род матери Георгия. Песня стала мотивом войны и самого Георгия, и его сыновей.
Историческими вопросами народ не заморачивался. В 1946 году праздник Победы был отменен до 1965 года. Со всех железных дорог, с вокзалов и с других общественных мест, городов и поселков внезапно исчезли инвалиды войны. Прошла кампания по захоронению павших воинов. Убирали отдельные малочисленные могилы и устраивали комплексные братские захоронения. Школьником Георгий часто ездил в лес с товарищами, и они готовили жердочки для ограждения братских могил. Участники войны, тогда их ветеранами еще не называли, в основном молчали. Да ведь у многих-многих людей была своя личная правда о прошедшей войне. Все понимали. И много говорить о войне было незачем, у народа послевоенных забот хватало. Так и жили с болью войны и с надеждой на лучшее будущее.
Версия №4 – «Хрущева Н. С., генерального секретаря КПСС 1954‒1964 г.г.»
Закрытый доклад о преодолении культа личности и его последствий.
Закрытый-то закрытый, только не был он никаким закрытым. Где-то в марте 1956 года Георгий Карамзин, ученик десятого класса, секретарь школьного комитета комсомола, слушал его в своем медвежьем углу в отдаленном районе Калужской области, в районном Доме культуры. Зал был полон, человек триста. Разумеется, это был районный актив, но ни о какой закрытости, тем более секретности, речи не было.
В докладе говорилось, кроме всего прочего, о трагических обстоятельствах начала Великой Отечественной войны. Виноват – Сталин. Никого не слушал, собственной разведке не верил, лучших командиров репрессировал, в военных вопросах был некомпетентен, войной руководил «по глобусу». Выслушали без обсуждения. На следующий день район жил как обычно.
В ранний хрущевский период – «оттепель», по Эренбургу, – появилось и несколько необычных произведений о войне: книга генерала Горбатова «Годы и войны» и мемуары генерала Сандалова «Пережитое» о первых днях войны. Пришли фильмы «Летят журавли», «Чистое небо», «Баллада о солдате». Пришла в литературу и кино тема репрессий, тема плена, тема героизма и трагизма первых дней войны. Воениздат не создал еще мощной свирепой цензуры по всему Союзу, и во многих местных издательствах, областных и республиканских, вышли книги о войне с деталями и подробностями, которые официальная история войны очень скоро постаралась исключить и забыть.
Верховного главнокомандующего времен Великой Отечественной войны из Мавзолея перенесли в могилу у Кремлевской стены. При этом его унизили, и это не скрывали. Комендант Кремля срезал золотые пуговицы с его маршальского мундира.
В это хрущевское время все-таки о войне стали говорить по-другому, несколько критически. Рассуждения о войне и некоторых ее операциях юный курсант Карамзин услышал от молодого генерала, преподавателя общевойсковой тактики на лагерных училищных сборах в Карельских лесах под Ленинградом. Было много и необычайно нового, и это пробуждало интерес к дальнейшему углублению исторических знаний. Но оттепель быстро закончилась, и за это время какого-то более-менее устойчивого понимания о Великой Отечественной войне не сложилось.
Версия №5 – «Маршала Советского Союза Г. К. Жукова»
В апреле 1969 года вышло в свет первое издание мемуаров «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, во время войны – начальника Генерального штаба, командующего Резервным, Ленинградским, Западным, Первым Украинским и Первым Белорусским фронтами, заместителя Верховного Главнокомандующего, члена Ставки Верховного Главного командования. Общая концепция первых изданий, а всего их было тринадцать, была следующей: мирно трудились, но мирный труд был прерван вероломным нападением фашистской Германии. Военные предупреждали Сталина, настаивали на повышении мер боевой готовности. Но Сталин не слушал военных, неквалифицированно вмешивался в руководство военными действиями, и поэтому первые боевые действия были неудачными. А когда стали слушать военных, дела пошли по-другому.
По фактическому объему материала и стилю изложения в то время книга производила очень сильное впечатление, затмевая и ранний хрущевский однотомник, и поздний хрущевский шеститомник. С явлением гласности и появлением интернета стали обнаруживаться очень многие нестыковки в книге «Воспоминания и размышления» Георгия Константиновича Жукова. И даже уже все посмертные переиздания книги местами противоречили друг другу. По Жукову, начало войны – это перебежчик Альфред Лисков, встреча у Сталина, директива №1, доклад командующего ЧФ Адмирала Октябрьского и начальника штаба Киевского военного округа генерала Пуркаева, далее – директивы №2 и №3. Все литературные построения книги Георгия Константиновича в дальнейшем историческими документами и другими свидетельствами не подтвердились. И иногда мягко, иногда жестко были раскритикованы как профессиональными историками, так историками-любителями. Но с мемуарами Маршала Победы Г. К. Жукова произошел исторический парадокс: чем меньше привлекает к себе внимания его книга, тем больше разгорается в народном сознании понимание его величия на фоне реальных, не придуманных событий, битв, сражений Великой Отечественной войны. «Маршал Победы» – по-другому не будет.
Версия №6 – «Брежневской эпохи»
Главные идеологи – Анфимов, Гареев.
Главный военно-исторический труд этого времени – 12-томник «История Второй мировой войны». Труд в целом очень расплывчатый, мало войны, много политики, но поражало великолепие прекрасно исполненных военно-тактических и военно-стратегических карт.
С 1965 года 9 мая объявлен государственным праздником – «Днем Победы». Первая медаль, которую получил в жизни Карамзин, была медаль «20 лет Победы». Изданы мемуары Л. И. Брежнева «Малая земля», и этой книге советская историография уделяла очень большое внимание.
Порадовало издание восьмитомника «Советская военная энциклопедия», при всех издержках на сегодняшний день это издание оставалось для Г. М. Карамзина самым лучшим официальным изданием в родном отечестве по истории войн и военному делу. Широко прогремели фильмы «Битва за Москву» и «Освобождение».
Никаких серьезных концепций по истории Великой Отечественной войны отечественная история брежневской эпохи не дала. Отдельно – книга Маршала А. М. Василевского «Дело всей жизни», в которой интересен и любопытен тот факт, что, будучи в начале войны начальником оперативного управления Генштаба и с 22 июня по 28 июня оставаясь главным в Генштабе, так как все начальники разъехались по фронтам, Василевский ничего, абсолютно ничего не написал о первых днях войны.
В целом эпоха Брежнева характерна большим количеством военных мемуаров, в которых сегодня четко просматривается жесткая цензура Воениздата и главного политического управления Советской Армии. Сегодня читать военные мемуары брежневской эпохи некритически нельзя. К ним должен быть военно-исторический научный комментарий.
, генерал-полковника, заместителя Начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота СССР на рубеже брежневской и горбачевской эпох. Версия оппортунистическая. Пытаясь сказать что-то новое, не дал новых идей представлений, остался в плену представлений брежневской эпохи. И все-таки как мост между старым и новым дал следующее: впервые в военно-исторической литературе появились более или менее правдивые данные о наших потерях на фронтах войны. Также впервые стали рассматриваться вопросы о некоторых крупных стратегических и тактических ошибках нашего Верховного главного командования. Первый день войны, начало войны описаны в книге «Триумф и трагедия». Последняя должность Д. А. Волкогонова – Советник Президента РФ по вопросам обороны и безопасности. Версия №7 – «Волкогонова Дмитрия Антоновича»
Версия №8 – «Представление о начале войны и о войне Игоря Бунича»
Первым русским публицистом по вопросам военной истории в период «перестройки» и «гласности» выступил Игорь Бунич. В первую очередь поражала раскованность в стиле описания серьезных военных событий и в изображении больших государственных деятелей. На границе развитого социализма и недоразвитого капитализма. Увлекся мало проверенными фактами. Упор на сотрудничество Сталина и Гитлера. Попытки психологического проникновения в суть событий. Бунич в азарте новых возможностей для исторической правды определил главных действующих лиц трагедии 22 июня как безумцев. Однако цели и задачи, их помыслы, устремления внятно не определил. Конечно, можно считать безумцами и Сталина, и Молотова, и других. Безумцы в контексте того, что мир всегда был безумным, безумным и остался. Но официальная историческая наука этот тезис не развивает. Разглядывая смутную мутную историю начала Второй мировой войны, понимаешь, что из всех тогдашних политиков высшего ранга не было никого более рационального, чем Сталин. А вот с ошибкой в третьем знаке Бунич угадал верно. Законы истории земного сообщества еще не открыты, и предугадать что-либо далее третьего знака невозможно. По прошествии времени, после того как появились серьезные углубленные исследования многих профессиональных историков и других разного рода исследователей, сочинения Игоря Бунича «Операция «Гроза», «Лабиринты безумия», «Ошибка в третьем знаке» читаются как художественная литература, с интересом, но для исторического понимания сути вещей дают очень мало.
Имперского канцлера Германии (1933—1945 г.г.), Главнокомандующего вооруженными силами Германии. Версии представления о причинах и начале войны с СССР изложены в следующих документах, имеющихся в открытом доступе: Версия №9 – «Адольфа Гитлера»,
1. Обращение к солдатам Восточного фронта: Сталин на границе с рейхом собрал огромные силы, готовится напасть на Германию, необходимо защитить Германию и напасть первыми.
2. Обращение к генералам Вермахта: Англию не победить, пока не разобьем Советский Союз.
3. Письмо к Муссолини от 21.06.1941 года: Гитлера тошнит от Дружбы со Сталиным. Он психологически не может выносить мирных отношений со Сталиным и чувствует, как Сталин готовит ему петлю. Сталину не удалось задушить Гитлера в 1941 году, но в 1945 году страхи Гитлера осуществились.
4. Речь Гитлера, прочитанная Геббельсом по берлинскому радио 22.06.1941 года: прилагались все силы к умиротворению Сталина. Коварство Сталина было безгранично. Всячески маскируясь, он готовил удар. Мы не можем ждать, мы бьем первыми.
5. Политическое завещание Гитлера в апреле 1945 года, за несколько часов до самоубийства: война была неизбежна, так как капиталистическое и коммунистическое жидомасонство не позволяло нормально существовать национал-социалистическому мир.

