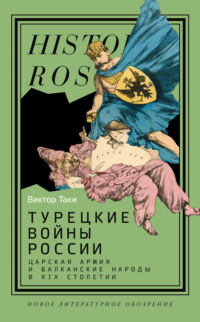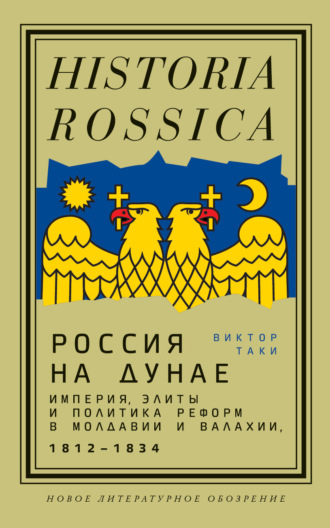
Полная версия
Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834
Будучи наиболее амбициозным проектом реформ Александра I, Государственная уставная грамота Российской империи была готова уже в 1820 году, однако она так и не была введена в действие. Более того, в последующее десятилетие произошло значительное сокращение автономии западных окраин, включая Бессарабию[271]. Чтобы объяснить эту смену подхода, необходимо обратиться к европейской и восточной политике России после 1815 года. Как фактический министр иностранных дел Каподистрия снова сыграл здесь важную роль. Основанная на оригинальном видении посленаполеоновского порядка в Европе, его политика оказала существенное влияние на положение Молдавии и Валахии. В то же время княжества стали тем местом, в котором фактически решилась политическая судьба этого замечательного деятеля.
Восточная политика России и миссия Г. А. Строганова
Первые три или четыре года после заключения Бухарестского мира были неактивным временем в восточной политике России. Внимание Александра I, его дипломатов и военных было поглощено борьбой с Наполеоном, а затем участием в послевоенном мирном урегулировании. Порта воспользовалась этим затишьем, чтобы подавить Сербское восстание в 1813 году и восстановить свои позиции на Дунае. Новоназначенные господари Молдавии и Валахии Скарлат Каллимахи (1812–1819) и Иоан Караджа (1812–1818) стремились прежде всего удовлетворить требования Порты относительно провизии, строительных материалов и рабочей силы и зачастую игнорировали положения Бухарестского мира, по которому княжества освобождались от османской дани на двухгодичный срок. Со своей стороны, российский посланник в Константинополе А. Я. Италинский и генеральный консул в Молдавии А. А. Пини, не будучи способны подкрепить свои протесты военными угрозами, были вынуждены ограничиться перечислением нарушений мирного договора со стороны Османов.
Подобная ситуация не могла удовлетворить тех представителей балканских элит, которые выступили на стороне России в предыдущей войне и теперь были вынуждены томиться в изгнании вдали от родины. С окончанием войн в Европе и началом Венского конгресса некоторые из них попытались интернационализировать Греческий вопрос и вновь привлечь внимание Александра I к балканским делам. Другие воспользовались назначением Г. А. Строганова новым российским посланником в Константинополе для того, чтобы повлиять на направление его деятельности. Составленные и одними, и другими записки содержали в себе критику российской политики до 1812 года и предлагали альтернативный курс в отношении княжеств, основанный на более общем видении российского преобладания на Балканах.
Первая из этих записок была написана бывшим митрополитом Валахии Игнатием. Несмотря на его смещение в марте 1812 года и приказ Александра I переселиться в Крым, Игнатий остался на своем посту еще на несколько месяцев с позволения российского главнокомандующего Кутузова. Однако враждебность со стороны валашских бояр заставила Игнатия опасаться за свое будущее после вывода российских войск из княжеств[272]. Осенью 1812 года Игнатий покинул Валахию и обосновался в Италии, не оставляя надежды вернуться на митрополичий пост в случае активизации восточной политики России. Осенью 1814 года Игнатий прибыл в Вену к открытию Венского конгресса для того, чтобы поднять Греческий вопрос вместе с Каподистрией, с которым он поддерживал отношения еще со времени существования Республики Семи Островов[273].
В своей записке Ингатий указывал на то, что распространение просвещения среди балканских христиан способствовало развитию среди них патриотических чувств наряду с приверженностью к православию, которое на протяжении столетий обеспечивало их национальное существование[274]. Чтобы препятствовать усилению влияния неправославных держав в регионе, Россия должна была избегать в будущем ошибок, допущенных оккупационными властями в княжествах во время последней войны. Вместо того чтобы «угрожать молдаванам и валахам суровостями военного управления», российская политика должна была основываться на местном законодательстве, восходящем к римскому праву, а также на древних обычаях и султанских фирманах и господарских хрисовах[275]. Чтобы помешать Порте «сделать Россию ненавистной в княжествах», необходимо было обеспечить исполнение Бухарестского мирного договора, положить конец вторжениям османских начальников дунайских крепостей на территорию княжеств, обеспечить сбор налогов в соответствии с финансовыми регламентами Александра Ипсиланти и Константина Морузи, введенными после Кючук-Кайнарджийского мира, а также создать дунайский карантин под надзором российского и австрийского консулов[276]. Обеспечивая безопасность южных областей России, эти меры могли сочетаться с усилиями, направленными на укрепление приверженности к ней со стороны других единоверных народов, прежде всего греков. Игнатий рекомендовал привлекать молодых греков в российские учебные заведения и делать пожертвования греческим филантропическим обществам, поддерживавшим греческих студентов в западных университетах. Местные власти в Крыму и новоприобретенной Бессарабии должны были основать греческие школы и типографии, а также способствовать развитию греческой торговли. Греция, утверждал Игнатий, должна была «услышать язык… взывающий к ее уму и сердцу»[277].
Еще более амбициозное, хотя и менее детализированное видение восточной политики России содержалось в записке бывшего валашского господаря Константина Ипсиланти, проживавшего в Киеве с момента своего смещения в 1807 году. Не оставлявший надежду вернуться на валашский трон Ипсиланти в двух записках, составленных в апреле и мае 1816 года, советовал Александру I избрать более активную стратегию в восточной политике[278]. Бывший господарь полагал падение Османской империи неминуемым и утверждал, что ни ее раздел, ни ее сохранение в качестве «слабого соседа» не выгодны России. Вместо этого Ипсиланти напомнил императору о Греческом проекте Екатерины Великой и советовал объявить новую войну Порте, занять ее европейские провинции и восстановить Греческую империю под скипетром одного из своих младших братьев.
Вне зависимости от того, действительно ли Ипсиланти верил в реализуемость Греческого проекта или нет, его личный интерес заключался в том, чтобы снова стать господарем Валахии или Молдавии (а по возможности обоих княжеств). С этой целью он вернулся к идеям Адама Чарторыйского, который еще в бытность свою российским министром иностранных дел в 1804–1806 годах предлагал создать «пояс малых государств, почти полностью независимых и с вооруженными силами, на которые Россия могла бы положиться в случае войны»[279]. После того как будущее Молдавии, Валахии и Сербии будет обеспечено таким образом, Россия может потребовать автономии для Болгарии, которая тем самым превратится в «новую Сербию». Для того чтобы усыпить бдительность Османов и продемонстрировать другим великим державам бескорыстие России, Ипсиланти советовал вернуть Бессарабию в состав Молдавского княжества. Эта рекомендация, безусловно, была сделана с прицелом на возможное возвращение Ипсиланти на молдавский трон (в 1799–1802, еще до назначения валашским господарем, Константин Ипсиланти успел побывать господарем Молдавии).
Еще одна записка была написана близким сотрудником Ипсиланти Мануком Мирзаяном (Манук-беем). Первоначально Манук-бей был клиентом знаменитого рущукского аяна Мустафы-паши Байрактара, под покровительством которого он превратился в одного из крупнейших османских банкиров (саррафов). Во время Русско-османской войны 1806–1812 годов Манук-бей держал в своих руках всю торговлю между Рущуком и Бухарестом и был важным связующим звеном между противостоящими державами. После гибели Мустафы-паши в 1808 году он перешел на российскую службу по рекомендации Ипсиланти и стал владимирским кавалером в качестве вознаграждения за секретную информацию, которой он снабжал российское командование. После заключения Бухарестского мира Манук-бей перебрался в Трансильванию и, как и Игнатий, прибыл в Вену к открытию конгресса. Там он получил разрешение Александра I основать армянский город в Бессарабии и был произведен в чин действительного статского советника. Хотя задуманный город так и не был основан, Манук-бей продолжал снабжать российское правительство секретной информацией, получаемой у армянских купцов дунайских городов, у которых он пользовался большим уважением вплоть до своей смерти в 1817 году в результате падения с лошади[280].
Как и митрополит Игнатий, Манук-бей критически относился к российской политике в отношении Молдавии и Валахии. В своей записке он продемонстрировал неэффективность российского протектората, перечислив многочисленные нарушения положений Бухарестского мира касательно княжеств. Манук-бей сообщал, что каймакамы (представители) Иоана Караджи и Скарлата Каллимахи, назначенные после заключения мира, сразу же начали собирать налоги, предназначавшиеся для уплаты дани Порте, вопреки оговоренному в мирном договоре освобождению княжеств от таковой на двухлетний срок[281]. Чтобы заставить Порту вернуть княжествам незаконно собранную с них дань, Манук-бей предлагал сосредоточить на границе российские войска и потребовать уступки молдавской территории вплоть до реки Сирет, что составляло одно из промежуточных требований российской стороны во время мирных переговоров 1811–1812 годов, закончившихся уступкой Бессарабии[282]. В качестве альтернативной стратегии российский посланник в Константинополе мог требовать смещения Караджи и Каллимахи и их замены господарями, избранными боярами, при условии, что избранники обязуются исполнять положения Бухарестского договора по части налогообложения[283].
Записки Игнатия, Ипсиланти и Манук-бея попали в руки Каподистрии, курировавшего восточную политику России начиная с Венского конгресса. Как и все эти авторы, фактический министр иностранных дел выступал за избрание Россией более активной и настойчивой позиции в отношении Османской империи. Уже во время работы конгресса Каподистрия постарался убедить Александра I поднять Восточный вопрос и, в частности, требовать от Порты исполнения положений Бухарестского мира, которые среди прочего предполагали предоставление сербам автономии[284]. Каподистрия и А. С. Стурдза, ставший его секретарем и конфидентом в данный период, полагали, что подобная поддержка Россией освободительных стремлений балканских народов не противоречила ее борьбе с революцией в Европе. Поскольку балканские народы были скорее данниками, нежели подданными султанов, поддержка их требований рассматривалась Каподистрией и Стурдзой как вполне совместимая с политикой Священного союза, созданного для обеспечения лояльности европейских подданных своим государям[285].
В процессе разработки инструкций для нового российского посланника в Константинополе Г. А. Строганова Каподистрия еще раз изложил Александру I свое видение восточной политики России. Он предлагал использовать многочисленные нарушения Бухарестского договора Османами для того, чтобы вовсе отменить это наспех заключенное и во многом неудовлетворительное соглашение. Вместо этого он советовал царю потребовать от Порты заключения нового соглашения и подкрепить это требование, в случае необходимости, демонстрацией силы. Чтобы «избавить навсегда молдаван, валахов и сербов от произвольного и притеснительного правления», Каподистрия предлагал превратить Молдавию, Валахию и Сербию в союзные государства и посадить на их престолы немецких принцев, что позволило бы «согласить все выгоды и уничтожить всякий предлог к подозрениям». В качестве компенсации Порта могла бы получить право закупки провизии в княжествах по умеренной цене. Одновременно можно было бы «даровать княжествам европейское существование», поставив их «под защиту ручательства не только России и Австрии, но даже, если нужно, Великобритании и Франции»[286]. Приглашая другие европейские державы присоединиться к режиму протектората над княжествами, Россия могла преодолеть подозрения и зависть с их стороны и продемонстрировать им пример политики, которой будет придерживаться, «когда доведется отдать Эллинам наследство их предков». Тем временем экономическое развитие Молдавии, Валахии и Сербии заставило бы других христианских подданных султана «возлагать свои упования… на справедливость и щедрость России»[287].
Александр I нашел программу действий, предложенную Каподистрией, «хорошо продуманной», но неприемлемой, поскольку она требовала «выстрелить из пушки» и тем самым поставить под вопрос хрупкий мир, только что установившийся в Европе. «Деятели революции ничего бы так не желали, как разрыва между мной и турками», – отметил царь, демонстрируя свое нежелание рисковать сотрудничеством с другими европейскими монархами в деле подавления революции[288]. Ответ Александра I свидетельствует о том, что «возвышенный мистицизм» Священного союза был чем-то большим, чем просто хитрым прикрытием, под которым, по утверждению некоторых авторов, русский царь якобы преследовал реальные геополитические интересы[289]. Восточная политика Александра I по факту соответствовала консервативным принципам международного порядка, установившегося при непосредственном участии России в постнаполеоновской Европе. Хотя османский султан не входил в Священный союз, царь отказался ставить под сомнение существование Османской империи на Венском конгрессе или в последующие годы[290].
Каподистрия был вынужден отказаться от своего плана «с тяжелым сердцем»[291]. Хотя он и передал Строганову записки Игнатия, Ипсиланти и Манук-бея, инструкции, составленные им для нового посланника, существенно отличались от предложений этих авторов и его собственных предпочтений. Строганов должен был убедить Порту в дружественном расположении российского императора и в его желании упрочить мир и согласие в отношениях между султаном и его христианскими подданными посредством исполнения существующих русско-османских договоров[292]. Инструкции, полученные Строгановым, исключали возможность новой войны с Османской империей и запрещали ему использовать угрозу войны в качестве средства давления на османское правительство[293]. Сознательный отказ Александра I от использования своих преимуществ негативно повлиял на ход переговоров Строганова с Портой, которые вскоре зашли в тупик.
Посланник должен был добиться удовлетворения российских коммерческих интересов и прекращения притеснений, чинимых российским подданным в османских владениях, положить конец османским нарушениям общей границы в Азии и способствовать признанию Портой сербской автономии. В отношении княжеств Строганов требовал компенсации местным жителям за незаконные поборы и трудовые повинности, которые им пришлось нести в первые годы после заключения мира, а также двухлетнего освобождения княжеств от дани в соответствии с Бухарестским мирным договором. Строганов настаивал и на признании Портой неприкосновенности представителей господарей в Константинополе. Наконец, он потребовал возвращения княжествам земель, отчужденных в свое время в райи дунайских крепостей, что так и не было сделано Османами, несмотря на то что это положение было включено еще в Кючук-Кайнарджийский договор и недавно подтверждено Бухарестским миром. Однако Порта отказалась обсуждать все эти вопросы до тех пор, пока Россия не вернет ей Азиатское побережье Черного моря, и отвергла предложение Строганова рассмотреть взаимные претензии[294].
Общий тон восточной политики России после 1815 года не только не позволял Строганову добиться исправления прошлых нарушений российско-османских соглашений, но и существенно ограничивал его возможности препятствовать новым нарушениям. Характерным в этом смысле был обмен между Строгановым, Портой и российским Министерством иностранных дел относительно нарушений финансовых положений хатт-и шерифа 1802 года, подтвержденных Бухарестским миром. Хотя хатт-и шериф отменял все новые налоги, введенные в княжествах после 1783 года, молдавский господарь Скарлат Каллимахи попытался повысить косвенные налоги (так называемые русуматы) на миллион пиастров, что было немедленно опротестовано российским консулом А. Н. Пизани в ноябре 1817 года[295]. Месяц спустя российский генеральный консул в Бухаресте А. А. Пини опротестовал подобную же меру со стороны валашского господаря Иоана Караджи[296]. Сообщения консулов послужили основой для двух нот, адресованных Строгановым Порте в феврале и апреле 1818 года, в которых посланник потребовал, чтобы господари «всегда уважали представления российского министра и консулов» в налоговых вопросах[297]. В своем докладе Министерству иностранных дел Строганов предлагал оказать давление на господарей, чей семилетний срок правления (установленный хатт-и шерифом 1802 года) истекал в 1819 году. Посланник рассматривал возможность раннего смещения особенно непокорного Каллимахи и даже предлагал министерству несколько кандидатур вместо него[298].
Однако жесткая позиция, занятая Строгановым, не была поддержана в Петербурге. Уже в начале 1818 года Нессельроде писал ему, что смещение господарей, представлявшееся логическим наказанием за злоупотребления, противоречит интересам России, поскольку произошло бы до истечения семилетнего срока, на соблюдении которого настаивала сама Россия с 1802 года[299]. Настойчивость Строганова, вероятно, обеспокоила Александра I, который стремился продемонстрировать свои миролюбивые намерения в преддверии Ахенского конгресса Священного союза, назначенного на осень 1818 года. В результате Каподистрия, сопровождавший императора в его поездке по Бессарабии и Новороссии в апреле и мае 1818 года, написал Строганову из Одессы, что его агрессивность подрывает миролюбивый образ России в глазах европейских держав. Каподистрия напомнил посланнику о недопустимости войны с Османами и порекомендовал ему избрать «дружелюбную и пассивную позицию» в переговорах с ними. Такая политика должна была убедить европейские кабинеты, что Россия стремится лишь обеспечить исполнение условий Бухарестского мира и что российское правительство будет соблюдать статус-кво, даже если Порта откажется от дальнейших переговоров[300]. Строганову ничего не оставалось, кроме как посетовать на то, что Россия «жертвует своими правами и интересами в Леванте ради сохранения мира в Европе»[301].
Порта, по-видимому, осознала, что демарши Строганова не будут подкрепляться реальной силой, и воспользовалась возможностью подорвать российское влияние на своих православных подданных. Хотя османское правительство официально и не оспаривало принцип российского протектората над Молдавией и Валахией, его действия ставили под вопрос реальность этого протектората. Так, в ноябре 1817 года молдавский господарь Скарлат Каллимахи отказался принимать ноту российского консула Пизани, который опротестовал нарушение финансовых положений хатт-и шерифа 1802 года, и Порта не сразу отреагировала на протесты самого Строганова по поводу того, что он находил оскорбительным для достоинства России[302]. Османское правительство быстро отменило налог, незаконно введенный Каллимахи, но продолжало оправдывать его решение не принимать ноту Пизани. Порта настаивала на том, что право «представления» есть только у российских посланников в Константинополе, но не у российских консулов в княжествах[303].
Российские дипломаты и вопросы внутреннего управления молдавии и валахии
Трения внутри молдавских и валашских элит составляли другую проблему восточной политики России после 1815 года. Изданный под нажимом Петербурга хатт-и шериф 1802 года хорошо иллюстрирует неоднозначную роль России в борьбе «автохтонного» и «греческого» элементов среди боярства княжеств. Хатт-и шериф предписывал господарям «предоставить местным уроженцам государственные должности», однако в то же время позволял им назначать на государственные должности «честных греков, образованных и достойных этих постов»[304]. В своем отчете Александру I российский посланник в Константинополе В. С. Томара, способствовавший принятию хатт-и шерифа, признавал, что в плане отстранения греков от государственных должностей в княжествах, чего требовали природные молдавские и валашские бояре, «можно было сделать более, но не должно терять из виду службы здешних греков полезных министрам вашего в-ва»[305].
После 1812 года имевшие место ранее трения между господарями-фанариотами и их греческими клиентами, с одной стороны, и природным боярством, с другой, возобновились с новой силой. Сразу же после вступления на валашский трон Иоан Караджа сослал лидеров автохтонных бояр Григоре Гику, Константина Бэлэчяну и Константина Филипеску. В 1817 году после неудачного заговора против господаря Филипеску был выслан из страны и вскоре умер при загадочных обстоятельствах[306]. Сходные трения существовали и в Молдавии, где видные природные бояре, отстраненные от государственных постов господарем Каллимахи, составили партию, которая начала активно доносить российским властям о господарских злоупотреблениях. Эти донесения заключали в себе различные предложения реформ, которые вскоре составили повестку дня российских дипломатов.
В декабре 1816 года молдавские ворники Константин Гика и Лупул Бальш пожаловались на злоупотребления Каллимахи бывшему молдовлахийскому экзарху Гавриилу, ставшему тем временем митрополитом Кишиневским и Хотинским[307]. Бояре указали на то, что господарь проигнорировал двухлетнее освобождение от дани, предписанное Бухарестским миром, что лишило княжество столь необходимого ему отдыха после пяти с половиной лет войны и оккупации. Согласно Гике и Бальшу, «князь со своими греками» взимали с населения в десятикратном размере продовольствие и строительный материал для дунайских крепостей и Константинополя и обогащались от продажи избытка[308]. Господарь также монополизировал экспорт кукурузы и скота в Венгрию, что разоряло молдавских купцов и грозило голодом жителям.
Для пущего увеличения своих доходов Каллимахи прибег к продаже боярских титулов не только боярским слугам (чокоям), писцам и волостным старостам (околашам), но и «лавочникам, пирожникам, мясникам и дубильщикам кож», что унижало достоинство истинных бояр[309]. По утверждению Гики и Бальша, злоупотребления господаря в судебной сфере позволили ему нажить миллион пиастров и вызвали разорение целых семей. Каллимахи не чурался вымогать деньги даже у захваченных им бандитов, отпуская их затем на волю для продолжения разбоя[310]. С помощью нескольких епископов и митрополита господарь жестоко подавлял все проявления сопротивления. Один из представителей боярской оппозиции, попытавшийся донести Порте о злоупотреблениях, был схвачен в Константинополе по приказу Каллимахи и исчез. Отчаявшиеся бояре просили Гавриила привлечь внимание бессарабского наместника Бахметьева и самого Александра I к своим страданиям. Они признавали благие намерения, стоявшие за решением императора увеличить срок правления господарей до семи лет, однако настаивали на том, что это решение «было и есть для нас причиной совершенной нашей погибели, ибо ненасытное сребролюбие князя с года на год возрастает»[311].
К концу 1810‐х годов предводителем «коренных» молдавских бояр стал Иордаке Росетти-Розновану, сам происходивший из греко-фанариотской семьи, давно осевшей в княжествах и успевшей ассимилироваться. Розновану был великим казначеем (вистиерником) Молдавии в период российской оккупации 1806–1812 годов, однако утратил эту позицию после назначения Скарлата Каллимахи молдавским господарем[312]. В результате Розновану превратился в главного критика политики фанариотов и защитника исторических привилегий княжества в соответствии с древними османскими капитуляциями. В 1817 году Розновану сообщил Каподистрии и Строганову об османских поборах и вымогательствах Каллимахи и посоветовал новоназначенному российскому консулу в Молдавии А. Н. Пизани занять жесткую позицию по поводу взимания господарем чрезвычайного налога в размере миллиона пиастров[313]. Во время посещения Александром I Бессарабии в апреле 1818 года эмиссары Розновану прибыли в Кишинев для того, чтобы заручиться российской поддержкой против Каллимахи[314].
В этот момент Розновану адресовал Строганову несколько записок относительно реформы налоговой системы и более широкого политического преобразования княжества[315]. Он обращал внимание посланника на то, что практика назначения господарями-фанариотами исправников-греков в уезды сильно ограничивает способность великих казначеев контролировать сбор налогов и является главным источником злоупотреблений. Для их устранения необходимо отстранить греков от всех административных постов и оставить им лишь те должности, которые обслуживают непосредственно господаря. Розновану также указывал на необходимость ограничения османской торговой монополии. Поставки скота и строевого леса в Константинополь и османские крепости на Дунае должны оплачиваться Портой по рыночным ценам, существовавшим в Молдавии. В то же время Розновану настаивал на исторически сложившейся свободе экспорта скота в Германию, составлявшего единственный источник валютных поступлений княжества[316].