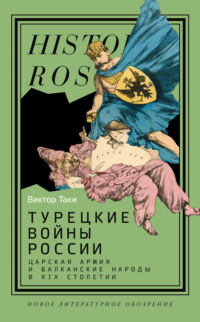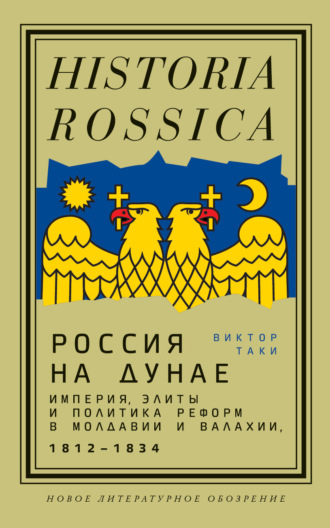
Полная версия
Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834
Политические взгляды Каподистрии сформировались под влиянием философии Просвещения и отражали сложный процесс формирования модерной греческой идентичности. Отвергнув крайности Французской революции, он предпочел добиваться греческого освобождения и более либерального миропорядка посредством постепенных реформ и развития образовательных учреждений. Его видение политического устройства постнаполеоновской Европы предполагало создание национальных государств и введение конституционных режимов, однако он оставался человеком Просвещения, поскольку полагал возможным осуществить эти преобразования лишь «сверху», т. е. с помощью государственной политики реформ[230]. Несмотря на свою приверженность делу греческого освобождения, Каподистрия не был демократом и стремился осуществить задуманное не посредством восстаний и революционной борьбы, а при поддержке легитимных монархов. Примечательно, что своего наибольшего успеха он добивался тогда, когда ему удавалось повлиять на Александра I. Таким образом, Каподистрия оставался в рамках парадигмы просвещенного абсолютизма, несмотря на то что объективно его проекты способствовали возникновению нового политического порядка.
Каподистрия начал формулировать свое видение восточной политики России еще до того, как фактически стал министром иностранных дел Александра I. В конце первого десятилетия XIX века он жил в Петербурге и служил в Коллегии иностранных дел, составляя время от времени записки для российского канцлера Н. П. Румянцева и проводя свободное время в узком кругу эмигрантов из Османской империи, в особенности в семье молдавского боярина Скарлата Стурдзы[231]. В записке, составленной в 1810 году, Каподистрия предложил свои соображения о том, как поскорее покончить затянувшуюся войну с Османской империей в условиях надвигавшегося конфликта с наполеоновской Францией. Каподистрия утверждал, что способность Порты оказывать сопротивление России определяется во многом поддержкой фанариотов. Лишенные отечества, последние нашли убежище в Османской империи и потому были заинтересованы в ее сохранении. В то же время фанариоты как наследники Византии считали Молдавию и Валахию принадлежавшими им по праву вотчины и были готовы настаивать на их удержании в османской орбите до тех пор, пока Россия не предложит альтернативы[232].
Каподистрия понимал, что Россия не может предложить фанариотам чего-либо подобного тем позициям, которые они занимают в османской политической системе. Поэтому он рекомендовал попытаться переманить их на сторону России перспективой консолидации их политического и культурного господства в княжествах, отделенных от Османской империи и поставленных под российский протекторат. Одновременно Каподистрия набросал программу реформ для Молдавии и Валахии, которая включала «признание государственной собственности, классификацию собственников, разделение различных рангов гражданства, создание магистратов для их признания и классификации, создание собраний для кодификации национальных законов и составления необходимых к ним дополнений»[233]. Реформы также должны были ввести «первые элементы системы образования, создать экономические, сельскохозяйственные и литературные общества и заложить основы больших коммерческих учреждений»[234].
Конечной целью всех этих преобразований было утверждение права частной собственности в Молдавии и Валахии, которое поощрило бы фанариотов скупать земли в княжествах и тем самым обращать свои денежные капиталы в недвижимость. По мнению Каподистрии, перспектива превращения в крупных земельных собственников способствовала бы переселению фанариотов в княжества и создала бы «колонию очень активных, предприимчивых и богатых людей». Молодой дипломат полагал, что «коммерция Крыма, Бессарабии, Молдавии и Валахии может быть оживлена посредством этой меры»[235]. Для реализации данного плана Каподистрия советовал поручить переговоры с фанариотами состоятельному человеку знатного происхождения, отличившемуся на русской службе[236].
Сколь утопическими ни казались бы предложения Каподистрии, они позволяют понять его видение места княжеств в восточной политике России к тому времени, когда он возглавил эту политику в качестве одного из двух государственных секретарей Александра I. Его план в отношении Молдавии и Валахии в каком-то смысле продолжал линию Ригаса Фереоса, который определял Грецию в качестве большого неоэллинского культурного и политического пространства, а не как территорию компактного проживания этнических греков. Реализация этого плана означала бы усиление политического и культурного господства фанариотов в княжествах. Консолидация фанариотского режима наверняка повлекла бы усиление греческой эмиграции в Молдавию и Валахию в еще большем масштабе, чем то случилось в действительности спустя два десятилетия, когда реформы, проведенные временной российской администрацией, открыли наконец возможности для инвестирования в экономику княжеств. С другой стороны, сохранение и усиление политического господства фанариотов способствовало бы продолжению трений между ними и автохтонным боярством княжеств. В результате греки остались бы главными врагами зарождающегося национального движения, что дало бы России возможность играть роль арбитра в межэтнических отношениях, подобную той, которую играли Габсбурги в Австро-Венгрии после 1867 года.
Победа М. И. Кутузова под Рущуком в июне 1811 года и капитуляция османской армии под Слободзеей в ноябре того же года позволили ускорить российско-османские переговоры о мире в период, когда русско-французские отношения находились на грани разрыва. В этих условиях Каподистрия сформулировал проект военной диверсии против Иллирийских провинций Османской империи с целью отвлечения части французских сил с главного театра предстоящего русско-французского противостояния и подрыва французского влияния в европейской части Османской империи. Каподистрия исходил из того, что проект вселенской монархии, к реализации которого стремился Наполеон, угрожал существованию Османской империи не меньше, чем России, и превращал султана в потенциального российского союзника. Чтобы обеспечить содействие со стороны Порты, Каподистрия предлагал вернуть ей Молдавию и Валахию, как только османская сторона подтвердит российский протекторат в отношении княжеств и согласится распространить его и на Сербию[237].
Как только будет заключен российско-османский договор, Каподистрия предлагал отправить часть дунайской армии в Иллирию через земли, населенные славянами, «чей язык и религия располагают их к России»[238]. Тем временем другая часть армии должна была быть послана в Адриатику морем и, при содействии британского флота, захватить Корфу, Бокку Которскую и Рагузу. Даже если предполагаемая диверсия не заставит Австрию отказаться от поддержки Наполеона, Каподистрия предполагал привлечь на сторону России венгров, обещав восстановить их древние привилегии. Наконец, диверсия в отношении Иллирийских провинций должна была положительно повлиять на тирольцев и швейцарцев, а также приободрить испанское сопротивление наполеоновской оккупации[239]. В случае если Порта откажется заключать наступательный союз с Россией и останется на стороне Франции, Каподистрия предлагал создать корпус из болгарских и других славянских добровольцев и отправить Черноморский и Балтийский флоты к проливам, а также поднять восстание в Европейской Турции. Присутствие великого князя Константина в Дунайской армии должно было усилить действие более меркантильных средств влияния на православных подданных Порты, например денежных подарков славянским предводителям или переговоров с мятежными пашами. Одновременно российское правительство должно было распространять слухи обо всех этих приготовлениях посредством фанариотов, греков и армян, дабы вызвать панику среди мусульманского населения Константинополя и тем самым вынудить Порту подписать необходимый России договор о наступательном союзе[240].
Этот план обратил на себя внимание Александра I благодаря посредничеству адмирала П. В. Чичагова, бывшего, как и Каподистрия, другом семьи Скарлата Стурдзы и приходившегося последнему соседом по поместью. Сын екатерининского командующего Балтийским флотом Павел Васильевич Чичагов последовал по стопам отца и стал морским министром в 1802 году. Конфликты с другими министрами заставили Чичагова подать в отставку в 1811 году, однако он сохранил доступ к императору в качестве генерал-адъютанта. В апреле 1812 года Александр I назначил Чичагова новым главнокомандующим Дунайской армией и генерал-губернатором Молдавии и Валахии. Император велел Чичагову искоренить злоупотребления в местном управлении княжеств, заключить союз с Османской империей и мобилизовать балканских славян против Франции и Австрии (ввиду того, что последняя выступила на стороне Наполеона)[241]. С этой целью Чичагов был уполномочен обещать славянам независимость и создание славянского царства, а также раздавать награды, военные чины и денежные подарки славянским вождям[242].
Однако этим смелым замыслам не суждено было исполниться по причине Бухарестского мира, спешно заключенного в середине мая 1812 года предшественником Чичагова Кутузовым. Согласно условиям мирного договора, Валахия и большая часть Молдавии возвращались Османской империи, чья верховная власть также признавалась и в отношении Сербии (с условием предоставления последней автономии). Последнее обстоятельство сильно расстроило вождя сербских повстанцев Карагеоргия Петровича и сделало практически невозможной мобилизацию балканских славян. Договор также не содержал упоминания о русско-османском наступательном союзе, и британский посол в Константинополе не проявил ни малейшего интереса к проекту совместных действий против Иллирийских провинций Французской империи. Вскоре Александр I приказал Чичагову оставить княжества и идти на соединение с главными силами Российской армии, отступавшими под натиском Великой армии Наполеона.
Бессарабский эксперимент Александра I
Во время прохождения российских войск через Бессарабию Чичагов и Каподистрия, назначенный незадолго перед тем начальником его дипломатической канцелярии, не упустили возможности определить форму управления новоприобретенной территории[243]. Их предложения свидетельствовали о желании компенсировать недостатки Бухарестского договора, оставившего неопределенным будущее российских единоверцев в Османской империи. Чичагов и Каподистрия стремились превратить Бессарабию в убежище для тех, кто скомпрометировал себя в глазах Порты сотрудничеством с Россией во время последней войны. В то же время новая область мыслилась ими как нечто большее, чем просто способ обеспечить будущее отдельных сторонников России. Как и Иллирийские провинции Османской империи на противоположной оконечности Балкан, новоприобретенная область должна была помогать проецировать российское влияние на этот регион. Для того чтобы выполнить эту функцию, Бессарабия должна была стать образцом просвещенного российского правления.
В своих докладах Александру I Чичагов отмечал, что «Бессарабия – прекрасная страна», которая сулит многие преимущества, если ей «дать несколько времени отдохнуть». Наряду с освобождением от налогов на три года и нераспространением на нее рекрутской повинности Чичагов, под очевидным влиянием Каподистрии, рекомендовал императору «ничего не делать, ничего устраивать, чего не требуют местные нужды»[244]. В результате «Правила для управления Бессарабией», написанные летом 1812 года Каподистрией и его другом и будущим сотрудником Александром Скарлатовичем Стурдзой (сыном молдавского боярина-эмигранта Скарлата Стурдзы), не преследовали цель заменить местные институты российскими. Наоборот, «Правила» предписывали областной администрации руководствоваться местными законами и сохраняли молдавский (румынский) язык в судопроизводстве[245]. Одновременно написанная Каподистрией инструкция Чичагова первому бессарабскому губернатору (и по совместительству его другу и соседу по поместью) Скарлату Стурдзе предписывала «искусным образом обратить на сию область внимание пограничных народов». «Последняя война занимала умы и надежды молдаван, валахов, греков, болгар, сербов и всех народов, привязанных к России», – отмечалось в инструкции. Однако с отступлением российской армии на север для борьбы с наполеоновским вторжением «дух сих народов может впасть в порабощение, и неприятели наши овладеют ими». Вот почему было принципиально важно «сохранить привязанность сих народов и охранить их от влияния наших врагов»[246].
Даже сам факт того, что Александр I уделил внимание Бессарабии и утвердил «Правила» накануне решающего сражения с Наполеоном, свидетельствует о значении, которое он придавал этой области как российскому противовесу Иллирийским провинциям Французской империи. Бессарабский эксперимент, начавшийся по инициативе Чичагова и Каподистрии, продолжился в последующие годы, несмотря на то что европейские кампании 1813–1814 годов и последовавший за ними Венский конгресс целиком поглотили внимание российского императора. В то время как неудачные действия Чичагова на Березине в ноябре 1812 года привели к его отставке, карьера Каподистрии, напротив, пошла вверх, и в начале 1814 года он был назначен российским статс-секретарем по иностранным делам, курировавшим прежде всего восточную политику России. Это дало ему возможность поддержать политику Бессарабской автономии в начале 1816 года, когда император наконец обратился к вопросам управления империей, давно требовавшим его внимания.
К этому времени беспорядки в областной администрации и злоупотребления чиновников поставили смелые замыслы 1812 года на грань краха[247]. Каподистрия склонен был объяснять такое развитие событий «присущими краю пороками» и тем, что «страна получила только молдавское, т. е. турецкое воспитание»[248]. Чтобы исправить ситуацию, Александр I назначил военного губернатора Подолии генерал-лейтенанта А. Н. Бахметьева своим полномочным наместником в Бессарабии с целью «указать ей гражданское управление, соответственное с ее нравами, обычаями и законами». Наместник имел право личного доклада императору по всем вопросам, касавшимся управления области[249].
Бахметьев получил указание составить областное правление из местных жителей, чье знание местных обычаев способствовало бы окончательному определению формулы бессарабской автономии. «Можно ли надеяться, – вопрошал автор инструкции Бахметьеву, – чтобы щастие какого бы то ни было народа устроилось через принуждение, чтобы он переменил свойство свое и подчинил его образу правления, совсем для него чуждого?»[250] Главной задачей наместника стала разработка Бессарабского устава, который должен был заменить «Правила» 1812 года. Проект устава должен был определить права и обязанности всех социальных групп, предписать способ избрания членов в областные и уездные органы, обеспечить осуществление судопроизводства на молдавском языке и в соответствии с местными законами, а также заложить основы областной полиции и пограничной стражи[251].
Назначение подольского военного губернатора бессарабским наместником весной 1812 года весьма символично. Присоединенная к Российской империи в результате второго раздела Польши Подолия была территорией, в которой социально доминировала польская знать. В первые два десятилетия, последовавшие за российской аннексией, отношения между империей и польской элитой оставались неопределенными, особенно в условиях противостояния России революционной и наполеоновской Франции. В ответ на создание Наполеоном Великого герцогства Варшавского в 1807 году Александр I дал сигнал полякам о своей готовности предоставить им широкую автономию в составе Российской империи[252]. Несмотря на массовое участие поляков в наполеоновской кампании 1812 года, российский император создал в 1815 году королевство Польское со своей конституцией, связанное с Россией лишь посредством личной унии[253]. Александр I даже рассматривал возможность включения в его состав «земель от Польши возвращенных» в результате второго и третьего разделов[254]. В 1816 году политика сотрудничества с польскими элитами на западных окраинах шла полным ходом, и решение назначить подольского губернатора бессарабским наместником может свидетельствовать лишь о том, что император рассматривал Бессарабию в качестве одной из западных окраин России.
В инструкциях Бахметьеву отмечалось, что политика в отношении Бессарабии «находится в полном соответствии с тою, которую Его Императорскому Величеству было угодно принять в отношении других территорий приобретенных в правление Его Императорского Величества»[255]. Отсылка к Великому княжеству Финляндскому и Царству Польскому здесь очевидна, как и ожидание, что бессарабское дворянство сыграет ту же роль в областном управлении, которую играли польские и финские элиты в своих регионах. Назначение подольского губернатора бессарабским наместником свидетельствовало о намерении императора уважать привилегии бессарабской знати; свидетельствовало об этом и его указание разработать новый устав на основании местных законов и обычаев. Таким образом, политика бессарабской автономии была связана с политикой Александра I в отношении польских элит, которая, в свою очередь, определялась противостоянием с Наполеоном. Речь идет не просто о типологическом сходстве, но о прямой взаимосвязи: Бахметьев привез с собой в Бессарабию свою польскую канцелярию, начальник которой, Н. А. Криницкий, и стал главным автором Бессарабского устава 1818 года[256].
По прибытии в Кишинев наместник сконцентрировался на разработке Устава. Результатом его усилий стал «Проект главных оснований к образованию внутреннего гражданского управления в Бессарабской области», который составил основу Устава 1818 года[257]. Он предполагал создание в области Верховного совета, состоящего из наместника, гражданского губернатора, вице-губернатора, председателей уголовного и гражданского судов и четырех депутатов бессарабского дворянства, избираемых на три года. Совет представлял собой высший исполнительный орган и суд последней инстанции. Те решения Верховного совета, которые ни в чем не противоречили российскому законодательству, вступали в силу незамедлительно, хотя и могли быть впоследствии оспорены в Государственном совете или Министерстве юстиции. Большая часть членов уголовного и гражданского судов избиралась бессарабским дворянством, как и члены исправничеств и уездных судов[258].
Проект Устава развивал принципы «Правил» 1812 года и предполагал создание бессарабской автономии, основанной на местных особенностях. После предварительного утверждения в Петербурге в 1817 году Устав образования Бессарабской области был утвержден Александром I после встречи с представителями бессарабского дворянства в Кишиневе в апреле 1818 года. Тем самым, Устав стал своего рода соглашением между императором и представителями местной элиты. Бессарабское дворянство получило широкие возможности участия в местном управлении, основанном на местной правовой традиции и обычаях. Взамен император требовал, чтобы они не рассматривали «народный характер» области и «особый образ управления» в качестве узкосословной привилегии. В своем рескрипте Бахметьеву Александр I подчеркивал, что его «намерение не клонится к тому, чтобы сие безмерное благо и все от него проистекающее были исключительным уделом одного сословия жителей; все должны иметь участие к тому в справедливой мере»[259].
Риторика правления, сообразного с местными особенностями, сопровождавшая разработку и введение Бессарабского устава 1818 года, помогала заполнить пробелы имперской легитимности. К началу XIX столетия (а в ряде случаев и ранее) продолжающаяся территориальная экспансия привела к исчерпанию потенциала российской имперской мифологии. Никакое риторическое изощрение не позволяло оправдать присоединение Финляндии, Польши или Бессарабии в рамках «собирания русских земель» или вступления в наследство Золотой Орды[260]. Чтобы легитимизировать вхождение этих территорий в состав России, самодержавию потребовалось инкорпорировать в свой дискурс элементы местных политических традиций, а также придать последнему более систематическую форму.
Для достижения этих, несколько противоречивых, целей Александр I избрал риторику современного ему конституционализма, однако придал ему своеобразное звучание[261]. Конституционные режимы, принятые в 1809 и 1815 годах в Финляндии и Польше, обеспечивали взаимодействие с местными элитами и в то же время представляли собой модели организации местного управления для других регионов империи. Речь Александра I на открытии первой сессии Польского сейма в 1818 году, написанная самим императором при участии Каподистрии, иллюстрирует исходные посылки такого конституционализма:
Образование, существовавшее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божией, распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приготовляю, и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела, достигнут надлежащей зрелости[262].
Из этого пассажа очевидно, что: 1) император находил возможным предоставить Польше конституцию ввиду предшествовавшего политического развития этой страны; 2) что он находил Польшу более цивилизованной, чем остальные части Российской империи; 3) что император рассматривал как саму польскую конституцию, так и сходные установления, которые он собирался ввести в других частях империи, в качестве благосклонного дара со своей стороны, а не как уступку каким-либо требованиям или как необходимое признание каких-либо исторических привилегий.
Несмотря на заключавшиеся в ней обещания, варшавская речь Александра I вызвала недовольство со стороны русского дворянства и чиновничества, напоминающее реакцию великорусского дворянства на привилегии балтийских немцев и украинской казачьей старшины, проявившуюся во время работы Уложенной комиссии в 1767–1769 годах[263]. В обоих случаях представители русского дворянства выразили свое недовольство таким видением имперского пространства, в котором западные окраины России представлялись российским правителям более просвещенными, чем внутренние ее территории, и являлись примером для последних[264]. В 1818 году участие Каподистрии в формулировке такого подхода вызвало характерную реакцию со стороны Василия Каразина: «Ах ты проклятая грецкая душа, господин Д’Истрия! Каким ты языком заставляешь говорить нашего Александра с жалкого трона Варшавы! Чорт, тебя возьми, каналью! Вот какими сахарями окружил себя Государь – вместо Паниных, Зубовых и проч., и проч., которые у него без всякого дела лежат в берлоге и сосут лапу. Неужели он не терпит ничего русскаго?»[265]
Словно в ответ на подспудное недовольство русского дворянства привилегиями, пожалованными элитам западных окраин, Александр I указал своему представителю в Царстве Польском, Н. Н. Новосильцеву, начать работу над Государственной уставной грамотой, предполагавшей введение представительных учреждений во всех частях Российской империи[266]. Разработанный в 1818–1820 годах в канцелярии Новосильцева, этот конституционный документ предполагал деление империи на наместничества, каждое из которых должно было состоять из нескольких губерний «по мере народонаселения, расстояния, обширности и смотря на нравы, обычаи и особые местные законы, жителей между собой сближающие»[267]. Помимо общеимперских институтов, каждое наместничество должно было иметь свои исполнительные законодательные и судебные органы. Законодательные собрания наместничеств, называемые сеймами, должны были участвовать в разработке местных законов, окончательное утверждение которых оставалось, однако, за императором[268].
Наместнический принцип организации политического пространства империи представлял собой прямую противоположность институциональным реформам первой половины Александрова царствования[269]. В то время как создание министерств и Государственного совета в 1802–1811 годах были шагом к централизации и бюрократизации, проекты разделения России на наместничества, разрабатывавшиеся после 1815 года, можно рассматривать как попытку возврата к «дворянской монархии» Екатерины Великой. В некотором смысле Государственная уставная грамота Александра I была сходна с губернской реформой, осуществленной Екатериной II в 1775 году. Эта реформа предоставила дворянству широкие возможности для участия в местном управлении и в то же время способствовала административной ассимиляции окраин. Государственная уставная грамота также сочетала принципы децентрализации и униформизации административных практик и правовых режимов. Хотя местные особенности служили основой разделения на наместничества, Грамота также предполагала отмену Конституционной хартии Царства Польского, ввиду нецелесообразности существования двух конституций в одной империи[270]. Само Царство Польское должно было превратиться в одно из наместничеств. Таким образом, Государственная уставная грамота как бы тривиализировала привилегированное положение Польши, Финляндии и Бессарабии посредством распространения на остальную часть империи политико-административных форм, первоначально опробованных на этих окраинах.