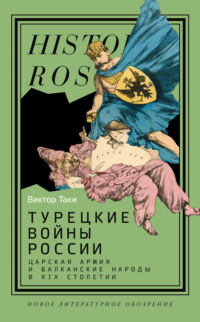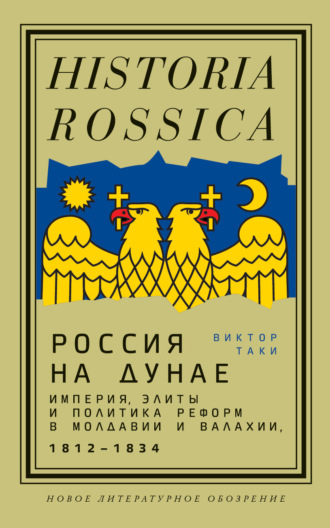
Полная версия
Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834
Расчет греческих революционеров не был совершенно утопическим. Российские власти в Одессе и Кишиневе достаточно свыклись с ролью России как покровительницы православных единоверцев и потому закрывали глаза на военные приготовления этеристов, даже без приказа на то со стороны императора[354]. Уже после того, как Ипсиланти пересек Прут, он написал генерал-губернатору Новороссии А. Ф. Ланжерону, дабы убедить того, что император в курсе происходящего и что он, Ланжерон, ничем не рискует, пропуская сформированные в Одессе греческие отряды на соединение с повстанцами в Молдавии[355]. Тот же блеф использовался этеристами для вербовки сторонников в княжествах, не только среди местных греков (включая самого молдавского господаря Михая Суцу), но и среди молдавских и валашских бояр[356]. Весь план этеристов держался фактически на уверенности в неизбежности российской интервенции на стороне восставших греков, после того как бывший адъютант Александра I призовет греков к восстанию от его имени. Российская военная интервенция, однако, не последовала, поскольку к марту 1821 года Александр I уже отстаивал принципы меттерниховского легитимизма.
Уже в Троппау в сентябре 1820 года император был вынужден признать, что его «либеральная» политика была ошибкой, и заявил о готовности послать войска для подавления революции в Италии. Спустя пять месяцев Греческое восстание в княжествах грозило вовлечь его в борьбу против законного, хотя и нехристианского государя. Меттерних не преминул воспользоваться щекотливым положением российского императора во время Лайбахского конгресса, чтобы расправиться со своим политическим противником Каподистрией. Подобно греческим заговорщикам, австрийский канцлер предпочел проигнорировать различие между «Филомузос этерия» и «Филики этерия» и представил Каподистрию как тайного зачинщика восстания[357]. Хотя Александр I не сразу уступил давлению Меттерниха, он немедленно дезавуировал своего бывшего адъютанта и осудил все попытки использования его имени для поддержки восстания, в котором император усмотрел результат всеевропейского революционного заговора, руководимого мистическим Парижским комитетом[358]. В последующие месяцы царь отказывался рассматривать османские расправы над греческим населением как повод для объявления войны Порте. Все попытки Каподистрии побудить Александра I занять более агрессивную позицию в Восточном вопросе оказались безрезультатными и свидетельствовали о стремительной утрате им своего влияния на царя. В мае 1822 года Каподистрия получил бессрочный отпуск и навсегда покинул Россию.
Глава 3. Восстания 1821 года и их последствия
За пять недель до того, как Ипсиланти и его сторонники пересекли Прут и заняли столицу Молдавии, соседняя Валахия оказалась охвачена восстанием под предводительством Тудора Владимиреску[359]. Во время Русско-турецкой войны 1806–1812 годов Тудор командовал отрядом пандуров и был награжден орденом Святого Владимира за свои заслуги. После 1812 года он был второразрядным боярином, занимавшим мелкую административную должность в своей родной Олтении (Малой Валахии), и поддерживал связи со своим бывшим товарищем по оружию Иордаке Олимпиотом и начальником господарских арнаутов Яннисом Фармакисом, являвшимися членами «Филике этерия». По договоренности с ними Тудор должен был поднять восстание в Олтении для того, чтобы создать затруднения для Порты и тем самым помочь Ипсиланти и его сторонникам перебраться через Дунай. Смерть валашского господаря Александру Суцу, последовавшая 18 января 1821 года (вероятно, в результате отравления лекарем, являвшимся членом «Филики этерия»), предоставила возможность осуществить данный план.
Поскольку русско-османские договоренности запрещали османским войскам вступать на территорию княжеств в мирное время, временное боярское правительство (каймакамия) поручило задачу подавления движения Тудора начальникам господарских арнаутов Иордаке Олимпиоту и Яннису Фармакису, которые, разумеется, ничего не предприняли. Первоначально движение Владимиреску было ограничено территорией Олтении и включало только местных пандуров, недовольных политикой господаря Суцу, однако вскоре его характер и масштаб изменились. Достигнув первоначальных успехов, Тудор обратился ко всему валашскому населению с призывом составить «собрание для блага и пользы страны», а также захватывать «для общего блага» «имущества бояр-тиранов»[360]. Это обращение позволило Тудору увеличить число своих сторонников и обеспокоило крупных бояр, несмотря на то что предводитель восставших приказал им не трогать земли и собственность тех из крупных бояр, которые состояли с ним в заговоре.
Возможно, в ответ на эту озабоченность в своей следующей прокламации Тудор перенес акцент с социальных вопросов на национальные. Он требовал запретить господарям-фанариотам приводить многочисленную греческую свиту с собой в страну, а также национализировать все «преклоненные» монастыри, отменить новые налоги, введенные господарем Суцу, восстановить финансовое уложение Иоана Караджи, отменить внутренние таможни, торговлю государственными должностями и боярскими титулами, отменить послушников, сократить число скутельников, создать четырехтысячную армию из пандуров, сократить количество судей и судебные расходы, а также отменить кодекс законов, составленный Караджой, и вернуться к уложению Александра Ипсиланти 1780 года[361]. С этими требованиями Тудор и его сторонники пересекли реку Олт, являвшуюся границей Малой и Большой Валахии, и 21 марта 1821 года заняли Бухарест, за несколько дней до того, как к нему подошли отряды Ипсиланти.
По мере приближения Тудора к столице представители (каймакамы) новоназначенного господаря Скарлата Каллимахи удалились в османскую крепость Джурджу[362]. Некоторые из великих бояр, включая членов временного боярского правительства, бежали в Трансильванию. Из Брашова (Кронштадта) они обратились к австрийскому императору Францу I, Александру I и к Порте с осуждением фанариотского правления и восстаний Тудора и Ипсиланти[363]. Те из великих бояр, что остались в Бухаресте, составили новое временное правительство и также обратились к царю. В своем обращении они жаловались на тиранию последних двух господарей, в результате которой «многие несчастные налогоплательщики малой Румынии (т. е. Малой Валахии или Олтении. – В. Т.) были вынуждены восстать». Бояре молили Александра I направить русскую армию на защиту их страны от османских войск, которые при содействии фанариотов уже готовились к вторжению с южного берега Дуная[364].
После вступления Тудора в Бухарест высшее духовенство и остатки крупного боярства поклялись «никогда не замышлять ничего против его жизни и чести», а также действовать союзно с ним во всех устремлениях, «которые не будут вредить благу, безмятежности и честному образу жизни валашского народа»[365]. Со своей стороны Тудор поклялся «никогда не замышлять против жизни и чести соотечественников или похищать их собственность» и признал временное боярское правительство. Он также обещал принять меры для того, чтобы остановить «ущерб и зло», совершаемые его сторонниками, а также убедить жителей всех 16 уездов Валахии «подчиниться правительству»[366].
В этот момент пришла весть об осуждении Александром I восстаний Ипсиланти и Владимиреску[367]. Первой реакцией на нее бояр, остававшихся в Бухаресте, было обращение к султану, царю и австрийскому императору, в котором они попытались доказать, что движение Тудора не имело подрывного характера и лишь стремилось к восстановлению привилегий страны, попранных предыдущими господарями[368]. В письме к Строганову бояре утверждали, что народ «не был движим духом возмущения», однако «был приведен в последнюю степень отчаяния грабительством последних господарей». Бояре просили российского посланника заступиться за них перед османским правительством для того, чтобы предотвратить османскую оккупацию, а также сделать возможным их обращение к Порте с просьбой о восстановлении «прав и привилегий этой страны»[369]. По получении новости о переходе османскими войсками Дуная те же бояре адресовали еще одно отчаянное обращение командующему 2‐й российской армией в Подолии П. Х. Витгенштейну, после чего бежали из Бухареста[370]. Молдавские бояре покинули свою столицу еще ранее, вскоре после того, как силы этеристов перешли из Молдавии в Валахию и когда стало известно об осуждении Александром I предприятия Ипсиланти[371].
Надвигавшееся занятие княжеств османскими войсками вызвало бегство не только бояр, скомпрометировавших себя сотрудничеством с повстанцами, но и простых жителей, у которых было основание опасаться неразборчивого гнева Османов[372]. Тем временем отношения между Тудором и «Этерией» начали портиться. В январе предводитель пандуров обещал помочь греческим повстанцам пересечь Дунай, однако Ипсиланти даже не попытался этого сделать, не получив гарантий помощи со стороны сербского вождя Милоша Обреновича. В то же время Тудор отказался объединять свои силы с отрядами Ипсиланти и препятствовал занятию последними Бухареста. Два движения различались по своему социальному и этническому составу и, в конечном счете, по своим целям. Взывание Тудора к принципам социальной справедливости и осуждение им злоупотреблений господарей и бояр сочеталось с тактической декларацией лояльности султану, что противоречило ярко выраженной антиосманской борьбе, начатой Ипсиланти.
Уже в конце января Тудор обратился к паше Видина, чтобы тот направил в Валахию представителя, который мог бы удостовериться в жалком состоянии княжества, ограбляемого господарями и боярами[373]. В середине апреля он обратился к паше Джурджи с просьбой также направить в Бухарест представителя, который услышал бы жалобы валахов[374]. Призывы Тудора не были услышаны, и неминуемое вступление османских войск в княжество заставило его покинуть валашскую столицу и отойти в свою родную Олтению в надежде продержаться там до тех пор, пока вмешательство великих держав убедит Порту принять требования «румынского народа из Валахии». Однако пандуры проявляли все большее недовольство жестким стилем правления Тудора и сообщили Ипсиланти о его контактах с османскими властями. Предводитель греческих повстанцев приказал арестовать Тудора, который был подвергнут пытке, а затем умерщвлен 28 мая 1821 года. Вскоре после этого силы этеристов были разбиты Османами вблизи австрийской границы, а сам Ипсиланти бежал в Трансильванию, где был арестован австрийскими властями и заключен в тюрьму.
1821 год и антигреческие настроения в Молдавии и Валахии
Сложные отношения Ипсиланти и Владимиреску навели современников на мысль о том, что неудача этеристов объяснялась прежде всего неспособностью их лидера заручиться поддержкой негреческого христианского населения Османской империи[375]. Более внимательные наблюдатели не ограничились замечаниями по поводу личных недостатков Ипсиланти и усмотрели причину поражения восстания в глубоко укоренившейся враждебности молдаван, валахов, сербов и болгар по отношению к грекам, вызванной веками политического и культурного господства греков над своими единоверцами[376]. Столетнее правление фанариотов в Молдавии и Валахии было наиболее заметным проявлением этого господства, которое стало объектом критики со стороны националистически настроенных румынских историков ввиду того, что оно подавляло национальный характер княжеств. 1821 год представляется переломным моментом с точки зрения накопившихся трений между местными и греческими элитами двух княжеств. В условиях очевидной нелояльности греков султану молдавские и валашские бояре не преминули воспользоваться возможностью убедить Порту восстановить правление местных господарей. Это, в свою очередь, послужило толчком для румынского национального «возрождения», завершившегося возникновением румынского национального государства во второй половине XIX столетия.
В то же время антигреческие настроения молдавских и валашских бояр были как следствием неудачи этеристского восстания, так и ее причиной. Хотя антифанариотский настрой у бояр наблюдался задолго до 1821 года, их культурная и лингвистическая эллинизация делала границу между ними и фанариотами весьма размытой[377]. Слишком многие молдавские и валашские бояре имели связи с «Этерией», чтобы принимать за чистую монету их последующие усилия представить это движение как исключительно греческое. Антигреческая риторика бояр в период, последовавший за подавлением восстания, позволила им дистанцироваться от потерпевшего неудачу предприятия и реализовать свои политические задачи.
Как уже отмечалось, трения между господарями-фанариотами и боярством имели место еще до Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. В то же время важно не принимать антифанариотские настроения, проявлявшиеся в боярских обращениях к Екатерине Великой, за свидетельство существования полномасштабной эллинофобии, которая якобы объясняет неудачу предприятия этеристов в Дунайских княжествах. Такая эллинофобия просто не могла развиться ввиду значительной эллинизации высшего класса Молдавии и Валахии на протяжении XVIII столетия. Бояре, жаловавшиеся на фанариотов, зачастую делали это на греческом языке и во многих отношениях были носителями греческой культуры[378]. Свое образование крупные бояре чаще всего получали в княжеских академиях Ясс и Бухареста, в числе преподавателей и выпускников которых находились крупнейшие представители греческого Просвещения и национально-освободительного движения, такие как Никифор Феотоки, Ризас Фереос, Иосиф Мисиодакс, Вениамин Лесбосский и Неофит Дукас, некоторые из которых стали членами «Филики этерия»[379].
Несмотря на свою приверженность «обычаям земли», представители автохтонного боярства Молдавии и Валахии не были модерными националистами. Современная румынская идентичность с акцентом на латинские корни румынского языка и непрерывность проживания романизированного населения в Карпато-Дунайском регионе с момента римского завоевания Дакии была сформулирована представителями униатского духовенства Трансильвании в конце XVIII – начале XIX века[380]. До 1821 года идеи представителей так называемой «трансильванской школы» распространялись в Валахии благодаря деятельности Георгия Лазаря, который сыграл важную роль в становлении образования на румынском языке как альтернативы господствовавшему на тот момент греческому. Однако Лазарь начал преподавать лишь за три года до этеристского восстания и повлиял прежде всего на молодое поколение бояр, которое взойдет на политическую сцену после 1821 года[381].
Родственные связи между боярами и господарями также сглаживали антифанариотские настроения накануне восстания. Характерным примером в этом смысле является боярская семья Стурдза, два представителя которой стали первыми природными молдавскими господарями после прекращения фанариотского режима в 1822 году[382]. Великий ворник Думитру Стурдза женился на дочери фанариотского господаря Григоре II Гики, правившего и в Молдавии, и в Валахии в первой половине XVIII столетия. Сын Думитру Скарлат последовал по стопам отца и женился на дочери Константина Морузи, господаря Молдавии в 1777–1782 годах. В то время как сын Скарлата Александр играл важную роль среди греческих выходцев в России, его племянник Михай Стурдза в 1820‐х годах был одним из лидеров крупного молдавского боярства, а затем стал вторым природным господарем Молдавии. При этом пылкий патриотизм не помешал Михаю Стурдзе жениться на дочери Стефана Вогориди, главного фанариота после 1821 года. Эллинизированный болгарин Вогориди был выпускником княжеской академии Бухареста и служил временным правителем (каймакамом) Молдавии в 1821–1822 годах, а впоследствии превратился в наиболее могущественного христианского чиновника в османской политической системе[383].
Даже поверхностный обзор этнического происхождения князей-фанариотов и лидеров природных бояр демонстрирует отсутствие четкой границы между ними. Наряду с этническими греками среди фанариотов встречались и семьи албанского (Гика) и румынского происхождения (Раковицэ, Каллимахи)[384]. Предводителями природных бояр, в свою очередь, были люди с очень нерумынскими фамилиями. В то время как лидером автохтонных бояр Валахии в период Русско-турецкой войны 1768–1774 годов был Михай Кантакузино, в начале XIX столетия в этой роли выступал Думитру Гика. И тот и другой были потомками иностранных господарей, правивших в княжествах с 1670‐х по 1770‐е годы XVIII века[385]. Лишь с небольшой натяжкой можно сказать, что автохтонные бояре Валахии имели в качестве своих предводителей бывших фанариотов.
Для лучшего понимания отношения бояр к «Филики этерия» стоит отметить, что последняя также в некотором смысле представляла собой организацию бывших фанариотов. Многие из заговорщиков находились в услужении у фанариотских господарей, начиная с основателя первой революционной «Этерии» в 1797 году Ригаса Фереоса, который служил секретарем валашского господаря Александра Ипсиланти, а затем стал секретарем Николая Маврогени, занимавшего валашский трон в 1786–1789 годах. Первые собрания «Филики этерия» проходили в московском доме Александра Маврокордата Фирариса, господаря Молдавии в 1785–1786 годах, чье последующее бегство в Россию стало одним из поводов к Русско-турецкой войне 1787–1791 годов[386]. Лидер «Филики этерия» Александр Ипсиланти был сыном другого фанариотского господаря, Константина Ипсиланти, перешедшего на сторону России в 1806 году. Главным отличием этих бывших фанариотов было то, что они стремились к разрушению Османской империи и тем самым действовали противно тем из своих соотечественников, которые продолжали служить султану и делали ставку на сохранение его державы. Среди «действующих» фанариотов, занимавших важные посты в начале 1821 года, только господарь Молдавии Михай Суцу был членом и горячим сторонником «Этерии». Напротив, валашский господарь Александру Суцу был врагом тайного общества, как и назначенный на валашский трон после его смерти Скарлат Каллимахи[387].
Надо признать, что немногие бояре были непосредственными членами «Этерии». В сущности, свидетельство такого членства имеется лишь в отношении Иордаке Росетти-Розновану в Молдавии и Григоре Брынковяну в Валахии[388]. Однако не стоит игнорировать гораздо более широкий круг бояр, которые знали о заговоре и сотрудничали с заговорщиками накануне и во время восстания. Как уже упоминалось, Тудор заключил секретное соглашение с главарями «Филики этерия» в Валахии Иордаке Олимпиотом и Яннисом Фармакисом, по условиям которого каждая из сторон была «вправе организовывать беспорядки и создавать внутренние и внешние затруднения, а также использовать всякую хитрость для достижения общей цели»[389]. 15 января 1821 года Григоре Брынковяну, Григоре Гика и Барбу Вэкэреску – члены временного боярского правления, созданного по случаю ожидавшейся с минуты на минуту смерти господаря Александра Суцу, – уполномочили Тудора «поднять народ с оружием в руках ‹…› для общего блага христианства и нашей родины»[390]. На следующий день боярское правление указало другому члену «Этерии», командиру пандуров Димитрие Македонски отправиться на помощь Тудору, поскольку «настало желанное и ожидаемое время и есть возможность с Божьей помощью освободиться ‹…› от ига чужеземного народа»[391].
Можно, конечно, утверждать, что, несмотря на антифанариотские настроения этеристов и природных бояр, последние никак не могли поддерживать проект Великой Греции, который являлся целью первых. Действительно, лидеры греческого национально-освободительного движения зачастую предполагали сохранение политической и культурной гегемонии греков над всем православным населением Юго-Восточной Европы. Так, в своем «Революционном манифесте, или Новом политическом строе для народов Румелии, Малой Азии, островов Средиземного моря, Валахии и Молдовы» Ригас назвал жителей этих территорий «потомками эллинов». Он признавал этническое и религиозное многообразие этих территорий, однако настаивал на сохранении их политического единства в рамках новой республики. Хотя Ригас оперировал гражданским определением нации, его проект, предполагавший всеобщее начальное образование на греческом языке, наверняка способствовал бы, в случае своей реализации, сохранению греческой культурной гегемонии как в Дунайских княжествах, так и в других частях «Великой Греции»[392].
В то же время риторика прокламаций Ипсиланти существенно отличается от проекта Ригаса и демонстрирует большую чувствительность предводителя повстанцев к политическим интересам молдаван и валахов. Сразу же после занятия Ясс Ипсиланти обратился к жителям Молдавии с прокламацией, в которой утверждал, что их правление и законы останутся неизменными, пока его силы будут готовиться к освобождению Греции от османской тирании[393]. В начале марта в своем обращении к валахам Ипсиланти говорил о «чудовищном деспотизме [Османов]» и «тирании князей», которые «затемнили их духовные силы и оклеветали их народные достоинства». Он представил начало греческой борьбы за независимость как наилучшую возможность для валахов «обрести святые ваши права, попранные на протяжении столетий»[394]. Наконец, в проекте будущего политического устройства Валахии, который Ипсиланти отправил валашским боярам в апреле 1821 года, он писал, что «верховная политическая власть должна всегда быть в руках уроженца страны и никогда не предоставляться иноземцу»[395].
Предложения Ипсиланти не остались без отклика со стороны бояр. Хотя к этому моменту многие из них уже бежали в Трансильванию, те бояре, что еще оставались в Бухаресте после вступления в него войска Тудора, ответили на приглашение греческого лидера рассмотреть будущее политическое устройство княжества. Представителем этих бояр был спэтар Григоре Бэляну, составивший обращение к Александру I[396]. В нем Бэляну писал, что, хотя бояре первоначально испугались Тудора и его сторонников, они затем увидели в действиях последних «стремление избавиться от тирании и пользоваться старинными их правами», в результате чего бояре «присоединились к этому патриотическому порыву и устремлению». Валашский боярин далее жаловался на нарушения прав и обычаев земли греческими господарями и просил царя восстановить древние свободы и самоуправление княжества[397].
Бэляну утверждал, что этой цели нельзя достичь посредством русско-османских договоров, поскольку «фанариоты своими происками легко их извращают». Поэтому необходимо «выхватить дакийскую землю в ее естественных границах и с населением в ней проживающим из-под османского господства». Автор полагал разумным, справедливым и естественным требовать, «чтобы народ наш отныне был народом свободным, суверенным, автономным и связанным единственно протекторатом вашего величества, православного, человеколюбивого и праведного монарха всероссийского». «Мы просим, – писал Бэляну, – возможности управлять сами собою на основании наших законов и обычаев на всем протяжении дакийской земли, разделяющейся на Олтению и Мунтению, имея над нами господаря одного с нами происхождения, который бы подчинялся законам земли и избирался бы народом, а также земское войско». Бэляну также требовал восстановления «естественных границ от Карпат до середины Дуная», разрушения османских крепостей и включения отчужденных в их пользу территорий обратно в состав княжества, что превратит Дунай в «непроницаемую границу всей Дакии и непреодолимую преграду для османской власти»[398]. Бэляну препроводил Ипсиланти текст этого обращения к царю с просьбой сделать все изменения, которые тот сочтет нужным, а также просил указать ему, что делать дальше[399].
Таким образом, революционное предприятие «Этерии» получило отклик со стороны боярства, которое усмотрело в нем возможность восстановления власти природных господарей. Последующие антиэтеристские и антигреческие выпады бояр были реакцией на бесчинства греческих повстанцев в княжествах, а также на осуждение всего предприятия Александром I. Отказ России от военного вмешательства на стороне повстанцев сделал неизбежным занятие княжеств османскими войсками, что заставило бояр бежать за границу. Укрывшись в Кронштадте (Брашове), Черновцах и Кишиневе, они стали составлять обращения и петиции к российскому императору и султану, жалуясь на постигшие их несчастья и подчеркивая свою непричастность к предприятию Тудора и «Этерии»[400]. В обращениях к своему сюзерену и своему покровителю бояре наводили адресатов на мысль о том, что их преданность заслуживает вознаграждения в виде восстановления природного правления в княжествах.
Уже в конце марта 1821 года молдавские бояре составили петицию Порте с просьбой назначить природного господаря «в соответствии с древними милостями всемогущей державы», чтобы был он избран боярским собранием и правил на основании законов и обычаев земли, будучи представлен в Константинополе представителем (капукехайей) также из числа местных бояр[401]. Быстрота, с которой молдавские бояре сформулировали это требование, несомненно, отражала специфические условия княжества, чей последний господарь-фанариот – Михай Суцу – скомпрометировал себя в глазах Порты участием в «Этерии»[402]. Молдавские бояре-эмигранты повторили эту просьбу спустя полгода в своем обращении к османскому правительству из Черновиц. На этот раз они также настаивали на составлении кодекса молдавских законов «на основании древних обычаев земли»[403]. Часть бояр пошла дальше простых обращений и, вернувшись в княжество по призыву османского каймакама Вогориди, весной 1822 года составила депутацию в Константинополь. Возглавляемая логофетом Иоаном Стурдзой, эта депутация снова попросила Порту вернуть их под власть природного господаря[404].