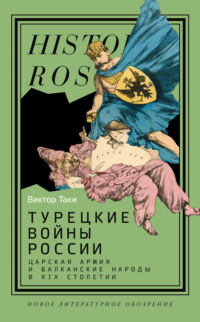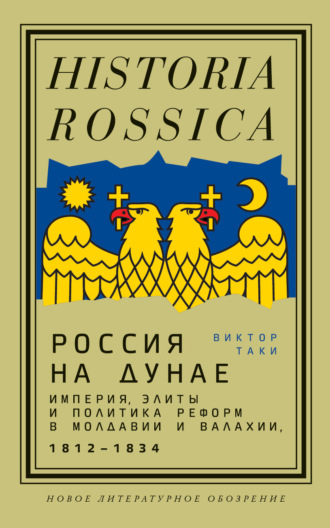
Полная версия
Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834
Предводитель молдавских бояр не ограничивался вопросами налогообложения и торговли и предложил Строганову свои соображения относительно реформы судов, которые также страдали от произвола господарей. По формуле Розновану, господари должны были выносить окончательные судебные решения совместно с боярским собранием «с объединением голосов самых достойных» и на основании «законов земли» (pravilele pămîntului)[317]. В отдельной записке Розновану также предложил реформу дивана, чтобы сделать его более независимым от господаря. В соответствии с принципом разделения властей боярин предложил разделить диван на судебную и административную палаты и указывал на важность сбора статистических данных о численности населения, состоянии сельского хозяйства и торговли. Наконец, Розновану отмечал необходимость строгого контроля над пожалованием скутельников и надзора за деятельностью исправников, общественных касс (фондов) и благотворительных заведений[318].
Розновану также наставал на полном самоуправлении Молдавии на основании собственных законов и полагал, что отношения княжества с Османской империей должны сводиться к уплате небольшой дани, оговоренной в первой османской капитуляции 1512 года[319]. Чтобы добиться невмешательства Порты во внутренние дела княжества, боярин предлагал восстановить правление природных молдавских господарей и предоставить России право выбирать их. Хотя избрание господаря Собранием страны было частью изначальной автономии княжества в системе османских владений, Розновану находил, что возвращение к такой практике после столетий «порочного правления» могло только породить беспорядки. По той же причине российское правительство, а не Собрание страны должно было определять цивильный лист господаря, утверждать налоги, которые господарь предлагал совместно с собранием первейших бояр, а также санкционировать все прочие законы. Можно заметить, что в своем желании минимизировать зависимость Молдавии от Османской империи бывший великий казначей был готов поставить княжество под фактический контроль России[320].
В то же время не только представители автохтонного боярства использовали риторику реформ для продвижения своих интересов. Чтобы консолидировать свою власть, и Караджа, и Каллимахи ввели новые кодексы законов, продолжавшие законотворчество господарей-фанариотов XVIII столетия, которое сочетало византийскую правовую традицию и влияния современной европейской правовой мысли[321]. Несмотря на трения с российской миссией, возникшие вокруг вопросов налогообложения, оба господаря стремились заручиться поддержкой Александра I и Каподистрии. Как и оппозиционные им бояре, господари воспользовались проездом императора через Бессарабию в апреле 1818 года для того, чтобы расположить его к себе. Во время встреч с Каподистрией дипломатические секретари (postelnici) Караджи и Каллимахи прозондировали отношение российского правительства к возможности продления их правления по истечении семилетнего срока, оговоренного хатт-и шерифом 1802 года.
Способы, с помощью которых господари стремились достичь своей цели, свидетельствуют о странной смеси интриги и наивности, характеризовавшей фанариотов. Чтобы оправдать свой замысел перед российскими властями, агенты Караджи и Каллимахи указали на многочисленные вымогательства и злоупотребления, которыми обычно сопровождалось назначение новых господарей. Они не ожидали от России, что ее представители напрямую потребуют от Порты продлить сроки их правления. Вместо этого агенты господарей предложили Каподистрии потребовать прекращения фанариотского правления в княжествах и восстановления древних прав молдавских и валашских бояр, которые включали и избрание господарей из числа уроженцев княжеств. Расчет Караджи и Каллимахи строился на том, что столь провокационное предложение со стороны России заставит Порту действовать прямо противоположным образом из желания навредить России и либо приведет к утверждению Караджи и Каллимахи на господарских престолах пожизненно, либо вызовет бесконечные переговоры, во время которых господари продолжат свое правление. Агенты господарей признались Каподистрии, что эта идея была им предложена австрийскими и британскими дипломатами, которые стремились таким образом саботировать российско-османские приговоры и ограничить российское влияние в Османской империи[322].
Помимо этого гротескного предложения, которое Каподистрия, разумеется, отверг, секретарь Караджи передал ему более серьезный проект российско-османской конвенции и особого регламента для Валахии и Молдавии, который должен был дополнить хатт-и шериф 1802 года. Проект конвенции подтверждал протекторат России над княжествами и предусматривал создание совместной российско-османской комиссии по расследованию злоупотреблений и незаконных поборов, имевших место с момента заключения Бухарестского мира[323]. Проект регламента подтверждал исторические привилегии княжеств и предусматривал возвращение земель, ранее превращенных в райи вдоль Дуная, их законным владельцам, а также определение цены провианта и строительного материала, поставляемых княжествами османским властям, специальными боярскими комиссиями под председательством российского консула. Проект регламента также предусматривал фиксацию размера подушной подати и налогов натурой, сбор этих налогов только чиновниками казначейства (запчиями), отмену послушников, ограничение числа скутельников, новую разбивку людоров, концентрацию всех налоговых функций в руках казначеев и комиссии из пяти местных бояр (чтобы сделать казначейство более независимым от господаря). Наконец, проект регламента предполагал фиксацию цивильных листов господарей и ограничивал их правление семилетним сроком[324].
Проект валашского господаря содержал многие идеи, высказывавшиеся Розновану в Молдавии. Самим фактом своего существования он, как кажется на первый взгляд, ставил под сомнение неоднократно выше упоминавшееся жесткое противопоставление фанариотских господарей местному боярству княжеств. Как будет показано в следующей главе, граница между фанариотскими элементами и местным боярством в действительности была несколько размыта. В то же время данный проект надо рассматривать скорее как отражение специфической ситуации, в которой оказался Караджа, нежели как политическую программу фанариотов в целом. Враждебность со стороны могущественного фаворита Махмуда II Халет Эффенди заставила Караджу опасаться за свою жизнь и готовить пути к бегству за границу. Чтобы получить российский паспорт, как только он окажется в Трансильвании, Караджа предложил свои услуги российскому Министерству иностранных дел. В частности, господарь раскрыл Каподистрии содержание своей переписки с секретарем Меттерниха Фридрихом Генцем, благодаря чему российские дипломаты узнали о попытках Австрии и Великобритании саботировать российско-османские переговоры[325].
В своих комментариях на полях проекта Караджи Строганов отмечал, что ограничение поставок продовольствия и строительного материала из княжеств, реформа казначейства и упорядочивание назначений на государственные должности, сколь бы полезными они ни были, вряд ли получат согласие Порты, поскольку на то не было оснований в предыдущих российско-османских соглашениях. Вместо этого посланник предлагал сконцентрироваться на возвращении земель, отчужденных в райи, ограничении числа скутельников и фиксации цивильного листа господарей, а также подтверждении семилетнего срока их правления[326]. В целом Строганов не мог не найти проект Караджи во многом совпадающим со своими собственными представлениями хотя бы потому, что этот проект включал ряд мер, принятия которых российский посланник уже пытался добиться от Порты. Речь идет прежде всего об идее назначения только коренных молдаван и валахов на государственные должности. Уже в мае 1817 года Строганов велел генеральному консулу Пини настоятельно советовать господарям назначать местных уроженцев на наиболее важные судебные и административные посты, как то предполагалось хатт-и шерифом 1802 года[327]. Однако, как известно, тот же хатт-и шериф позволял господарям назначать наиболее достойных греков на те же должности. Пини предложил преодолеть это противоречие посредством ограничения доступа греков только к тем должностям, которые обсуживали непосредственно господаря, и эта формула была воспроизведена спустя несколько месяцев в проекте Караджи[328].
Как и ранее, российская миссия маневрировала между фанариотами и представителями автохтонного боярства. Однако ее усилия по преодолению трений между греческими и местными элементами в элитах двух княжеств не могли не выглядеть двусмысленными хотя бы потому, что сам российский генеральный консул был константинопольским греком. Неудивительно, что местное боярство смотрело на Пини скорее как на врага, чем как на защитника. В уже цитировавшемся выше письме митрополиту Гавриилу Константин Гика и Лупул Бальш отмечали, что генеральный консул стал кумом господаря Каллимахи и его фактическим шпионом. По свидетельству этих бояр, Пини сообщал господарю об их жалобах и обращениях к российским властям, а агент Пини, также грек, ходил по боярским домам и докладывал Каллимахи об услышанных там разговорах. Гика и Бальш утверждали, что Пини помогал Каллимахи грабить страну. Утратив надежду достучаться до российской миссии через официальные каналы, бояре были вынуждены обратиться к бывшему молдовлахийскому экзарху[329].
Связи Пини и Каллимахи, возможно, стояли за решением российского Министерства иностранных дел перевести генерального консула из Ясс в Бухарест. Новый российский консул в Молдавии А. Н. Пизани (также уроженец Константинополя, однако итальянского происхождения) вскоре столкнулся с господарем по поводу чрезвычайного налога в размере миллиона пиастров[330]. Тем не менее и после 1817 года восточная политика России предполагала сохранение правления фанариотов в Молдавии и Валахии, что не могло радовать местное боярство. Характерной в этом смысле была реакция российского Министерства иностранных дел на решение Порты в 1819 году ограничить число претендентов на молдавский и валашский престолы представителями четырех фанариотских семей (Каллимахи, Суцу, Ханжерли и Морузи). Российский МИД предпочел промолчать по этому поводу и инструктировал Строганова, чтобы тот уверил Скарлата Каллимахи (ставшего Великим драгоманом Порты после завершения своего семилетнего правления в Молдавии в 1819 году), что Россия исключает возможность войны с Османской империей и не стремится к каким-либо территориальным приобретениям, которые положили бы конец правлению фанариотов в княжествах[331]. Эти заверения должны были поощрить фанариотов к разрешению спорных вопросов в российско-османских отношениях, накопившихся с 1812 года.
Вовлеченность российских дипломатов в вопросы налоговой политики в княжествах также свидетельствовала об их маневрировании между фанариотами и местным боярством. Как было показано выше, Строганов поначалу противостоял попыткам Караджи и Каллимахи увеличить косвенные налоги в нарушение хатт-и шерифа 1802 года и финансовых положений Константина Ипсиланти и Александра Морузи, изданных в 1804 году на его основе. Энергичные протесты российского посланника вынудили Порту отменить чрезвычайный налог Каллимахи в размере миллиона пиастров. Строганов также воспользовался потребностью Караджи в российской поддержке накануне планируемого им бегства для того, чтобы заставить господаря издать фискальный статут, который возвращал налогообложение к уровню 1804 года. Однако стремление Александра I продемонстрировать миролюбивый настрой и попытка Каподистрии заручиться поддержкой фанариотов для достижения прогресса в переговорах с Портой заставили Строганова сменить подход. Уже в июне 1818 года российский посланник написал Каллимахи о возможности увеличения его цивильного листа, что позволило господарю извлечь из княжества дополнительные 800 тысяч пиастров в последний год его правления[332]. Та же политика уступок по вопросам налогообложения продолжилась и в отношении преемников Караджи и Каллимахи Александру и Михая Суцу. Оба господаря утверждали, что инфляция, имевшая место с 1804 года, делала необходимым увеличение налогов в денежном эквиваленте[333]. Каподистрия нашел этот аргумент достойным внимания и предложил Александру I прозондировать мнение бояр по этому поводу неформальным образом через российских консулов[334]. В результате Александр I дал свое согласие на увеличение Александру Суцу косвенных налогов (русуматов) в Валахии в три раза[335].
Политика ублажения фанариотов в конце концов достигла своей цели в 1820 году, когда Порта согласилась возобновить переговоры по поводу нарушений условий Бухарестского мира. В ходе нескольких нелегких конференций с реисом-эфенди Строганов представил османскому правительству список незаконных поборов в княжествах, имевших место с 1812 года, а также перечень других нарушений хатт-и шерифа 1802 года[336]. Помимо получения удовлетворения по частым вопросам, таким как возвращение земель, отчужденных в райи, их законным владельцам, Строганов стремился консолидировать правовую основу российского протектората. Для этого российский посланник пытался добиться от Порты признания за Россией права вето на новые налоги в княжествах и занесения этого признания в протоколы конференции. Переговоры тем самым способствовали превращению общего права России делать «представления» Порте по поводу Молдавии и Валахии в ее непосредственный контроль над определенными аспектами внутреннего управления княжеств. Конечной целью российского посланника было заключение пояснительной конвенции к Бухарестскому миру, подобной той, что была заключена в Айналы-Каваке в 1779 году вслед за Кючук-Кайнарджийским миром[337].
Практическим результатом первых трех конференций Строганова с османским реис-эфенди было соглашение о необходимости новых финансовых регламентов для княжеств, которые были бы разработаны господарями совместно с диванами и утверждены Портой и Россией как державой-покровительницей[338]. На четвертой конференции в марте 1821 года Порта согласилась зафиксировать правовым образом цивильные листы господарей, признала противозаконность поборов, которым подверглись Молдавия и Валахия в первые годы после заключения Бухарестского мира, и выразила готовность выплатить компенсацию княжествам посредством освобождения их от дани на три года. Османское правительство также согласилось на ограничение своей торговой монополии в Молдавии и Валахии посредством предоставления российским консулам права контролировать закупочные цены на продовольствие и строительные материалы, поставлявшиеся княжествами в Константинополь и османские крепости на Дунае. Наконец, османский представитель согласился на создание дунайского карантина (предлагавшегося, как было указано выше, еще митрополитом Игнатием в его записке 1814 года)[339].
Как отмечал сам Строганов, легкость, с которой Порта приняла все эти российские требования после нескольких лет отказа даже обсуждать их, отражала не внезапную смену убеждений османскими чиновниками, а резко изменившиеся обстоятельства[340]. 22 февраля 1821 года отряд из 500 членов тайной греческой организации «Филики этерия» перешел границу на Пруте между российской Бессарабией и Молдавским княжеством и занял Яссы. Предводителем этого отряда был Александр Ипсиланти, сын пророссийского господаря Валахии Константина Ипсиланти и бывший адъютант Александра I[341]. В молдавской столице Александр Ипсиланти издал несколько революционных прокламаций, призывавших османских греков подняться против султана, обращавшихся к местным жителям с просьбой о помощи в этой борьбе, а также намекавших на скорую поддержку России[342]. В своем письме к Александру I, отправленном в тот же день, Ипсиланти утверждал, что греки восстали по воле Божией и что Провидение избрало царя помочь этому предприятию[343]. Тем временем последователи Ипсиланти начали свою борьбу с османским владычеством с истребления османских купцов и их охраны (бешлиев) в Яссах и Галаце, что запустило цепную реакцию этнического насилия в Европейской Турции на последующее десятилетие.
Хотя Александр I и Каподистрия поспешили осудить восстание, Порта, очевидно, опасалась, что дальнейшее упорствование в переговорах может заставить царя изменить свое решение. В результате османское правительство быстро согласилось на все требования, принятия которых Строганов безуспешно добивался на протяжении предыдущих пяти лет. Однако временная дипломатическая капитуляция Порты не имела практических последствий для положения Молдавии и Валахии в краткосрочной перспективе. Российско-османские отношения стремительно портились, несмотря на уступки Порты, в результате ее репрессивных мер в отношении греков и вызванных ими протестов Строганова. Последствия восстания «Этерии» и последовавшего за ним разрыва в российско-османских отношениях будут рассмотрены в следующей главе, в которой также будет показано значение переговоров Строганова для формирования российской повестки реформ в Молдавии и Валахии. Здесь необходимо лишь объяснить скорое и недвусмысленное осуждение Александром I восстания, начатого от его имени и под знамением православия и столь часто ассоциируемого с восточной политикой России. Для этого необходимо еще раз взглянуть на общую стратегию, избранную российским императором и его министром иностранных дел в отношениях с региональными элитами в революционную эпоху.
Каподистрия, Александр I и греческое восстание
В первые годы существования Священного союза видение Александром I монархического единства существенно отличалось от легитимизма австрийского канцлера Меттерниха. В то время как легитимизм служил прежде всего интересам Австрийской империи, обеспечивая восстановление ее традиционной гегемонии в Италии и Германии, Александр I рассматривал возможность оставления Иоакима Мюрата на неаполитанском троне и активно лоббировал поглощение Пруссией части Саксонии в качестве компенсации за российский контроль над большей частью бывшего Великого герцогства Варшавского. Российская альтернатива легитимизму Меттерниха включала в себя также поддержку умеренных конституционных режимов, таких как французская Конституционная хартия 1814 года, сопровождавшая реставрацию власти Бурбонов, конституция Баварии и Великого герцогства Баденского, а также поощрение (правда, безуспешное) конституционного разрешения конфликта между Испанией и восставшими против нее колониями в Новом Свете[344].
Эта политика монархического конституционализма использовала растущее осознание европейскими монархами невозможности править дореволюционными методами и представляла собой попытку заручиться поддержкой умеренной оппозиции, а также изолировать радикалов. Как уже отмечалось выше, Александр I никогда не рассматривал конституцию в качестве взаимообязывающего контракта между ним и представителями региональной элиты. В его представлении конституция была милостивым даром монарха представителям элиты, который должен был обезоружить оппозицию. С этой точки зрения создание конституционного Царства Польского, столь озадачившее и приближенных Александра I, и его противников, являлось вполне разумным решением. С другой стороны, принципы монархического конституционализма помогали российскому императору использовать недовольство политикой меттерниховского легитимизма в Италии и Германии[345].
Каподистрия активно поддерживал Александра I в этом подходе и даже шел дальше в своей попытке систематизировать антиреволюционную стратегию, альтернативную легитимизму. Весьма характерно в этом смысле письмо, адресованное им французскому министру иностранных дел и бывшему одесскому губернатору герцогу Ришелье в августе 1820 года, после начала революции в Испании и Италии. Каподистрия указывал своему французскому коллеге на возможность связей испанских и итальянских революционеров с Парижским клубом, состоящим из людей, «воспитанных в школе народного деспотизма во время Французской революции». Признавая революцию «болезнью столетия», российский министр иностранных дел отмечал, что социальное здание обрушилось именно в тех странах, где правительство «оказалось в изоляции в результате абсурдного и произвольного правления». Напротив, революционеры терпели неудачи везде, где «мудрые установления противопоставили их соблазнам неодолимую силу законов, которые обеспечивают наряду с сильной и необходимой властью законные права и интересы народов». Для пущей убедительности Каподистрия противопоставил пример Германии и Пруссии ситуации в Испании и Неаполе. В то время как правительства первых приняли или собирались принять конституции, вторые не сумели или не захотели заручиться поддержкой своих подданных[346].
Каподистрия писал Ришелье из Варшавы, куда он прибыл вместе с Александром I к открытию второй сессии Польского сейма. Созванный накануне конгресса Священного союза в Троппау, посвященного революциям в Испании и Италии, Польский сейм должен был продемонстрировать преимущества монархического конституционализма перед жестким легитимизмом Меттерниха. Об этом свидетельствует, в частности, письмо, отправленное Каподистрией из Варшавы российскому послу в Берлине барону Алопеусу. «В эпоху когда столь много событий кажутся подрывающими всякую уверенность, – писал Каподистрия, – утешительно видеть хотя бы одну европейскую страну, в которой общественный порядок основывается на добросовестности и управляется в соответствии с принципами истинной либеральности»[347]. Однако оптимизм Каподистрии вскоре не оправдался, поскольку Александр I столкнулся во время работы сейма с сильной оппозицией[348].
После того как ключевой элемент альтернативной контрреволюционной стратегии российского императора не сработал, Меттерних повел решительную атаку на всю политику монархического конституционализма в ходе своих встреч с Александром I в Троппау. Чтобы доказать опасность «либеральной» политики российского императора, австрийский канцлер представил революции в Испании и Неаполе, польскую оппозицию и даже так называемую «семеновскую историю» как звенья единого революционного заговора, направляемого тайным Парижским комитетом. В то же время Меттерних указывал на предложенный самим Александром I Священный союз как единственное средство противостояния революционной угрозе[349]. В то время как польская оппозиция требовала от российского императора стать по-настоящему конституционным монархом, австрийский канцлер призывал его быть истинным легитимистом. Искусное использование Меттернихом страха Александра I перед тайными обществами принесло свои плоды, и российский император оставил свои попытки противостоять австрийскому доминированию в Германии и Италии, а также свои проекты конституционной реформы в самой России.
Неудача монархического конституционализма как альтернативной формулы политического устройства для посленаполеоновской Европы объяснялась прежде всего отсутствием оригинального политического языка у его сторонников. Александр I и его министр иностранных дел были вынуждены использовать элементы риторики конституционализма и монархического единства, интерпретируя и то и другое весьма своеобразно. Будучи хрупким соединением взаимно противоречивых идей, монархический конституционализм пал жертвой более очевидных смыслов конституционализма и монархического единства, используемых его политическими противниками. Вынужденный стать или защитником легитимизма, или настоящим конституционным монархом, Александр I избрал первое. В условиях новой волны революций в Европе он вряд ли мог поступить иначе.
Конец политической карьеры Каподистрии в России также был результатом его неспособности контролировать идеологическое значение своей политики в условиях непримиримой вражды революционеров и легитимистов и, в частности, смысл своей политики по отношению к османским грекам. Каподистрия не был доктринером. Встретив препятствия в реализации своего Греческого проекта после 1815 года, он проявил гибкость, что позволило ему сохранить свое влияние на политику России на протяжении довольно длительного времени. При всех своих симпатиях делу греческого освобождения он оставался сторонником умеренности и компромисса. Он понимал, что примирительный тон политики Александра I после Венского конгресса делал маловероятной новую российско-османскую войну, на которую рассчитывали более радикальные греческие лидеры. Вот почему Каподистрия сконцентрировал свои усилия на формировании новой греческой элиты посредством образовательных инициатив и подготовки почвы для достижения греческой независимости, как только ситуация в Европе и восточная политика России сделают это возможным. С этой целью Каподистрия стал одним из активных членов Общества любителей муз («Филомузос этэрия»), основанного в Вене во время конгресса[350].
Очень скоро, однако, его имя стало использоваться последователями «Филики этерия», основанного в Одессе в 1814 году тремя греческими купцами, стремившимися к более радикальному решению греческой проблемы[351]. Введенные в заблуждение традиционным образом русского царя как покровителя православия этеристы рассматривали его министра иностранных дел в качестве естественного предводителя греческого революционного движения и даже предложили ему стать во главе их тайного общества. Несмотря на то что Каподистрия отверг это предложение с возмущением[352], этеристы продолжали использовать его имя для привлечения сторонников среди своих соотечественников как в России, так и в Османской империи, что поставило российского министра иностранных дел в крайне деликатное положение. В своих письмах к греческим лидерам Каподистрия снова и снова настаивал, что он никогда не поддерживал идею революционного восстания. Хотя его истинным намерением было развитие греческого образования, «некоторые интриганы намеренно… приписывают „Обществу любителей муз“ другие мотивы и преследование гораздо более далеко идущих целей», – писал Каподистрия ректору Высшей коммерческой школы в Одессе Вардолахосу[353]. Однако на практике статс-секретарь Александра I мало что мог сделать для того, чтобы остановить этеристов, будучи раздираем между симпатией к своим единоплеменникам, с одной стороны, и лояльностью к императору и своими политическими убеждениями – с другой.