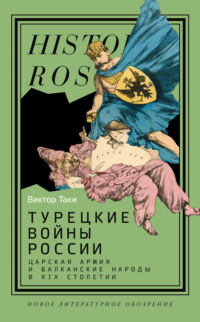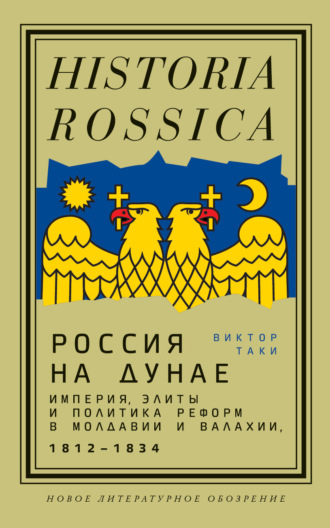
Полная версия
Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834
Автокефальный характер молдавской и валашской церквей также проявлялся и в политических функциях митрополитов и епископов[194]. Церковные иерархи предстательствовали в диванах, а также участвовали во внешних сношениях княжеств, причем зачастую не согласовывая свои действия с Константинопольским патриархатом. В то время как Вселенские патриархи исправно предавали Россию анафеме в начале каждой Русско-турецкой войны и благословляли султанское воинство на борьбу с неверными, митрополиты Молдавии и Валахии подписывали боярские адресы к царям, содержавшие просьбы о покровительстве и принятии в подданство. В этом контексте назначение экзархов в княжествах Санкт-Петербургским синодом в 1789–1792 и 1808–1812 годах не было столь шокирующим решением, каковым эта мера могла бы показаться, если бы российское правительство решило ее применить во время последующих Русско-турецких войн на территориях к югу от Дуная, более тесно интегрированных в состав Константинопольского патриархата. В назначении экзархов была также определенная правовая логика. В то время как российские сенаторы заняли место господарей в светской администрации Молдавии и Валахии, российские экзархи возглавили церковную иерархию княжеств. И те и другие были представителями России как державы, временно осуществлявшей верховную власть в княжествах на правах военной оккупации[195].
В то же время не стоит недооценивать новизну назначения Гавриила в 1808 году, в том числе и потому, что он впервые сосредоточил в своих руках верховную духовную власть в обоих княжествах[196]. Так же как и сосредоточие верховной светской власти в руках сенатора, председательствующего в диванах, временная интеграция их церковной иерархии способствовала дальнейшему институциональному сближению Молдавии и Валахии, которое в конце концов сделало возможным их объединение в 1859 году. Нововведения последовали сразу же после первой инспекционной поездки экзарха, выявившей многочисленные беспорядки в церковном устройстве. Прежде всего, экзарх Гавриил создал консисторию – коллегиальный орган, составленный из лучших представителей местного духовенства, который должен был исполнять функции церковного суда и вести протоколы своих заседаний и решений. Гавриил также назначил особых церковных надзирателей в каждую епархию, которые должны были наблюдать за поддержанием чистоты в церквях и благопристойным поведением священников и их паствы, действуя при этом на основании существовавших в России положений, специально переведенных на румынский язык[197].
Усилия Гавриила привнести порядок в церковную сферу имели отношение и к реформе светской администрации, необходимость которой все более осознавали российские военные и чиновники. В частности, Гавриил велел священникам завести приходские книги и отмечать в них всех родившихся, умерших и вступивших в брак. Введение приходских книг стало первым шагом к осуществлению полномасштабной переписи населения княжеств, являющейся неотъемлемым инструментом модерного государства[198]. Другой важной мерой стало сокращение количества священников. Желание избежать все увеличивавшегося налогового бремени объясняло стремление многих жителей стать священниками и пользоваться полагавшимися клиру налоговыми льготами. Реализовать такое стремление позволяла политика господарей-фанариотов, быстро осознавших возможности личного обогащения, открываемые церковной симонией. В результате к началу XIX столетия в княжествах было большое количество «сверхштатных» священников, у которых не было приходов, но которые пользовались налоговыми льготами за счет остального податного населения. Несмотря на то что ужесточение Гавриилом правил посвящения в сан оказалось недолговечным и прекратилось с возвращением княжеств под контроль Порты и господарей-фанариотов в 1812 году, предпринятые им меры предвосхитили политику временной российской администрации в 1818–1834 годах, направленную на более равномерное распределение налогов, посредством упразднения налоговых льгот в отношении многих полупривилегированных групп населения[199].
Разумеется, реформаторские усилия Гавриила вскоре встретили сопротивление. Как и сенаторы, председательствовавшие в диванах, экзарх находился в Яссах и испытывал гораздо больше трудностей в Валахии, чем в Молдавии. Валашский митрополит Досифей отказался следовать указаниям Гавриила, в частности в вопросе о чрезмерном умножении количества священников[200]. Досифей, вероятно, был связан с Филипеску и явно враждебен России: при нем валашские священники даже не упоминали русского царя во время Божественной литургии. В результате Гавриил стал настаивать на замене Досифея, и в конце 1809 года Святейший синод удовлетворил этот запрос, назначив на место Досифея бывшего митрополита Арты Игнатия[201]. Связи последнего с Россией относились еще ко времени существования Республики Семи Островов, созданной под протекторатом России в 1800 году и прекратившей свое существование после Тильзитского мира[202]. Вскоре после этого Игнатий прибыл в Петербург, был принят Александром I и вручил ему записку о состоянии православной церкви в Османской империи.
Несмотря на то что Игнатий первоначально представлялся Гавриилу как «человек ученый и всероссийскому Высочайшему двору с наилучшей стороны известный», новый митрополит вскоре занялся все тем же возведением в священнический сан за деньги, которое практиковал Досифей. К тому же Игнатий демонстрировал явное предпочтение своим греческим единоплеменникам, что вызвало сильное недовольство со стороны природных валахов среди диванных бояр[203]. Последние написали жалобу в Священный синод и, когда она не дошла до адреса, обвинили Гавриила в препятствовании их коммуникации с российскими властями[204]. В ходе расследования, инициированного по указанию обер-прокурора А. Н. Голицына, представители автохтонного боярства Барбу Вэкэреску, Щербан Грэдиштяну и Константин Варлаам обвинили митрополита Игнатия, председательствовавшего по валашскому обычаю на заседаниях дивана, в попытках маргинализировать природных валахов, которые пожертвовали своим имуществом «для продовольствия императорских войск», а также в продвижении греков, грабящих страну. Варлаам особенно подчеркнул, что митрополит тем самым нарушал исконные обычаи Валахии, не позволявшие грекам занимать государственные должности[205]. Подтвержденные епископом Арджешским Иосифом злоупотребления Ингатия заставили Гавриила просить его смещения спустя два года после того, как экзарх приветствовал его назначение вместо враждебно настроенного Досифея[206].
В Молдавии Гавриил также встретил сопротивление в ходе попыток искоренить злоупотребления в управлении так называемыми «преклоненными» монастырями[207]. Словно в компенсацию за практическую автокефальность молдавской и валашской церквей восточные патриархи установили контроль над многими монастырями в княжествах и их обширными земельными владениями. Такие монастыри были «посвящены» церквям и монастырям в Константинополе, на Афоне и в Святых местах и управлялись греческими игуменами, которые ежегодно пересылали большие суммы своим патриархам. В своих усилиях упорядочить монашескую жизнь Гавриил обнаружил значительные нарушения в хозяйственной отчетности «преклоненных» монастырей и призвал игуменов к ответу[208]. Последние в свою очередь обратились с жалобами на экзарха в Молдавский диван и Святейший синод, протестуя против того, что они полагали нарушением монастырских уставов и прав восточных патриархов[209].
В ответ на эти обвинения Гавриил напомнил жалобщикам, что со вступлением российских войск в Молдавию российский Святейший синод, чьим членом он являлся, заменил восточных патриархов в качестве высшей духовной власти в княжествах. Экзарх также обращал внимание на то, что, согласно уставам «преклоненных» монастырей, последние были обязаны посылать восточным патриархам только те деньги, которые оставались после покрытия всех их собственных расходов. После того как и Молдавский диван, и российский Синод поддержали Гавриила, непокорные игумены обратились к французскому консулу Леду. Поскольку некоторые из игуменов были французскими подданными, Леду опротестовал ущемление их материальных интересов. В ответ Гавриил указал консулу, что частные интересы игуменов не имели ничего общего с управлением монастырями, являвшимися церковной собственностью. Одновременно Гавриил рекомендовал российскому главнокомандующему и Святейшему синоду арестовать предводителей непокорных игуменов и предотвратить любые сообщения между «преклоненными» монастырями и восточными патриархами вплоть до окончания войны, а также постепенно заменить игуменов-греков местными уроженцами[210]. Синод снова поддержал все предложения экзарха, и, несмотря на то что принятые меры оказались недолговечны, они, тем не менее, предвосхитили политику временной российской администрации в отношении «преклоненных» монастырей в 1828–1834 годах.
Все эти эпизоды, а также общее участие Гавриила в управлении княжествами подвигли его на то, чтобы представить российскому правительству свои предложения по преодолению трудностей, с которыми столкнулась временная российская администрация. В начале 1812 года, когда военные действия на Дунае перемежались мирными переговорами, Гавриил прибыл в Петербург и вручил государственному секретарю Александра I и крупнейшему российскому реформатору М. М. Сперанскому записку о злоупотреблениях, имевших место в Валахии со времени смещения Ипсиланти в 1807 году. В ней экзарх отмечал, что сенаторы, председательствовавшие в диванах, и их заместители в Бухаресте не были способны ограничить произвол местных чиновников, поскольку не были знакомы с молдавскими и валашскими обычаями. Недостаток контроля над членами диванов в ходе продолжавшейся войны открыл последним широкие возможности для вымогательств и мошенничества, вызвавшие разорение населения. Вмешательство российских главнокомандующих в вопросы управления только усугубило ситуацию, поскольку военные также не были знакомы с местными обычаями. Назначение константинопольских греков в качестве казначеев (vestiernici) и судей составило дополнительный источник злоупотреблений[211].
Для исправления ситуации Гавриил рекомендовал создать Молдовлахийскую комиссию, подобную той, что несколькими годами ранее была создана для контроля над новоприобретенной Финляндией. Комиссия должна была разработать план управления Молдавией и Валахией до окончания войны. После заключения мира комиссия должна была предоставить главе российской администрации в княжествах детальную инструкцию и наблюдать за ее исполнением, рассматривать обращения местных жителей и контролировать снабжение армии. Комиссия также должна была определить размер всех налогов и способ их сбора, а также осуществить подробную ревизию всех счетов. Наконец, Гавриил выступал за четкое разделение военной и гражданской властей и рекомендовал сосредоточить последнюю в руках генерал-губернатора, ответственного только перед царем и Молдовлахийской комиссией[212].
После того как Александр I согласился на предложение Гавриила создать комиссию, экзарх прислал Сперанскому еще одну записку, в которой отмечал необходимость так организовать внутреннее управление княжеств, чтобы оно, «сохраняя елико возможно местные права, преимущества и обыкновения жителей, мало по малу стесняло (бы) более их связь с Россией». Такая формула «обнаруживала бы соседним христианским народам, под скипетром великого султана остающимся, благотворные действия мудрых предписаний Государя Императора»[213]. Конкретные предложения Гавриила включали назначение в уездную администрацию российских чиновников наряду с местными представителями для предотвращения злоупотреблений со стороны последних. Та же формула предлагалась в отношении судов, которые должны были включать равное количество местных и российских чиновников, с тем, однако, чтобы решающее слово в случае разделения мнений принадлежало российскому генерал-губернатору. Молдовлахийской комиссии необходимо было также определить твердые и неизмененные правила для сбора налогов и ведения учета государственных доходов и расходов. Комиссия должна была также принять меры, способствующие росту населения, развитию ремесел и улучшению общего благосостояния[214]. Всей этой политике следовало бы исходить напрямую от российского императора «для произведения большего впечатления и вящего успеха в народе, совершенно азиатском»[215].
В своих предложениях Гавриил исходил из того, что Молдавия и Валахия станут частью Российской империи по заключении мира. Уступка княжеств России действительно была одним из требований, с которым российские главнокомандующие Каменский и Кутузов начинали мирные переговоры с Османами в 1811 году. Однако упорство Порты и надвигающаяся война с Наполеоном заставили Кутузова постепенно сократить российские требования и согласиться в конце концов на установление новой границы по Пруту и Дунаю, что оставляло Валахию и большую часть Молдавии под османским контролем[216]. После того как российские войска оставили княжества летом 1812 года, Гавриил перебрался в Бессарабию, где активно содействовал российским властям в организации управления на новоприобретенной территории. Записки, которые он представил Сперанскому, таким образом, не имели практических последствий. Значимость этих записок определяется содержавшимся в них более или менее систематическим планом преобразований молдавских и валашских институтов, которые в последующий период будут все более заботить российских дипломатов.
Председательство российских сенаторов в диванах Молдавии и Валахии представляло собой парадоксальную смесь реформ и коррупции, чье негативное воздействие на местное население было хорошо передано российским дипломатом Антоном Антоновичем Фонтоном. С одной стороны, писал Фонтон, «большинство бояр желают возвратиться под османское управление. Этому не следует удивляться, ибо им известно, что под российскою державою им нельзя уже будет обогащаться хищничеством». С другой стороны, невиданное угнетение, которому были подвергнуты местные жители, сильно подорвало их симпатии к России и их желание оставаться под российским управлением. Согласно Фонтону, народ не только желал ухода российских войск, но «даже и возвращения прежнего порядка вещей, потому что никогда во время господарей не обременен он был такими налогами как ныне»[217].
Несмотря на преимущественно негативные результаты, российская оккупация княжеств в 1806–1812 годах стала важной вехой в отношениях России с молдавскими и валашскими элитами. С одной стороны, российские военные, гражданские и церковные деятели начали осознавать необходимость институциональных реформ в княжествах и даже предприняли первые попытки сформулировать план этих преобразований. Главы временной российской администрации впервые попытались рационализировать местные институты. Тем самым они открыли новый период в истории российской политики в отношении Молдавии и Валахии, во время которого реформы стали способом расширения российского протектората над ними, а также своеобразным ответом на возникающие здесь перед Россией вызовы. Другими словами, реформы стали способом осуществления имперского влияния. Как будет показано далее, отдельные представители боярства отозвались на реформаторскую риторику, увидев в ней способ отграничения власти господарей и консолидирования своих социальных преимуществ. Несмотря на то что политический дискурс боярства строился вокруг восстановления исторических привилегий Молдавии и Валахии, попранных фанариотами, растущее число политически сознательных бояр видело в реформах средство достижения своих целей.
В результате реформы превратились в важное измерение политического диалога между Российской империей и элитами княжеств наряду с единоверием, что оказало противоречивое воздействие на российские позиции в княжествах. Как держава-покровительница Россия продолжила оставаться главным адресатом боярских петиций и проектов на протяжении первых десятилетий XIX века. В то же время начало возрастать количество обращений молдавских и валашских бояр к другим великим державам[218]. В отличие от православной риторики, составлявшей эксклюзивную форму коммуникации между Россией и княжествами, реформаторский дискурс был более универсальным и потенциально открытым для участия в нем не только России, но и других соседних и далеких империй. Тем не менее на протяжении двух десятилетий, последовавших за Бухарестским миром, российские дипломаты и военные сохраняли преобладающие позиции в дискурсивном пространстве реформ в Молдавии и Валахии.
Глава 2. Трудности империостроительства в революционную эпоху
В начале XIX столетия российская политика в отношении Молдавии и Валахии во многом определялась отношениями России с греческими элитами Османской империи. В своей экспансионистской стратегии под знаменем защиты единоверцев Екатерина Великая стремилась заручиться поддержкой греков, занимавших ключевые экономические, политические и культурные позиции среди православных подданных султана[219]. Так, во время Русско-османской войны 1768–1774 годов российская эскадра в Средиземном море под командованием А. Г. Орлова высадила десант в Морее для поддержки антиосманского восстания, которое, тем не менее, было жестоко подавлено Османами[220]. В процессе колонизации Новороссии после заключения Кючук-Кайнарджийского мира российское правительство привлекало греческих поселенцев и оказывало покровительство греческой торговле в Средиземном море. Греческие купцы Одессы и землевладельцы южных российских губерний были заинтересованы в развитии зернового экспорта через черноморские проливы[221].
Коммерческие связи генерировали политические проекты. Освобождение земель классической древности стало важным элементом в легитимизации российской экспансии на юге, что отразилось в Греческом проекте Екатерины Великой. В союзе с австрийским императором Иосифом II она намеревалась завоевать Константинополь и восстановить Греческую империю на берегах Босфора под скипетром своего младшего внука Константина[222]. Наконец, растущее влияние России в Молдавии и Валахии (особенно после создания там российских консульств в 1782 году) способствовало установлению контактов с фанариотами. Несмотря на негативное отношение к последним, характеризовавшее литературу эпохи Просвещения, Россия не поддержала требование валашских бояр положить конец фанариотскому режиму во время мирных переговоров, завершившихся подписанием Кючук-Кайнарджийского договора. Вместо этого российское правительство стремилось разделить с Портой контроль над назначением и смещением господарей и даже нашло общий язык с некоторыми князями-фанариотами.
В то же время гетерогенность греческих элит составляла проблему для восточной политики России. Наряду с фанариотами, занимавшими важные посты в Константинополе и княжествах, существовали также греческие землевладельцы Мореи и Архипелага (кодзабасы), а также все более многочисленные греческие купцы Новороссии, вовлеченные в средиземноморскую торговлю и все более заметные в княжествах. Разнородность греческих элит проявлялась в различии их культурных практик и политических ориентаций. В то время как фанариоты были продолжателями византийской политической культуры и, за несколькими важными исключениями, ориентировались на Османскую империю[223], новая греческая буржуазия все сильнее воспринимала неоэллинистическую идентичность и испытывала влияние Французской революции[224].
В то же время границы между этими группами оставались размытыми и, зачастую, проекты политического освобождения греков, сформулированные в этот период, представляли собой любопытную смесь неовизантийских имперских и французских республиканских тенденций. Особенно примечательным в этом смысле был «Революционный манифест, или Новый политический строй для народов Румелии, Малой Азии, островов Средиземного моря, Валахии и Молдовы» Ригаса Фереоса, составленный в Вене в 1796 году. Родившийся в Фессалии Ригас получил образование в Патриаршей академии в Константинополе, этой «Великой школе нации», и в 1780 году стал секретарем валашского господаря Александра Ипсиланти, а затем был в услужении у нескольких крупных валашских бояр. Под влиянием Французской революции Ригас сформулировал идею Греческой республики, которая бы включала все европейские провинции Османской империи (за возможным исключением Боснии и Албании), а также острова Архипелага и побережье Малой Азии и которая основывалась бы на принципе религиозного и этнического равноправия, с тем, однако, чтобы государственным языком в ней был неогреческий[225].
Сколь бы утопическими ни казались подобные проекты, они иллюстрируют поиск внутри греческого общества формулы и способов освобождения и свидетельствуют о неопределенности политической ориентации греческих элит в контексте борьбы между великими державами. Привлекательность революционной и наполеоновской Франции для радикальных элементов среди греков и других балканских народов, безусловно, подрывала влияние России на православных единоверцев. Внутриэлитные конфликты, в которые оказалась вскоре вовлечена Россия, также обозначили пределы ее «мягкой силы». Проекты будущего политического переустройства Юго-Восточной Европы, сформулированные представителями греческих элит, так же как и их реальное экономическое, политическое и церковное преобладание под османским господством, неизбежно вызывали недовольство других православных подданных султана. Трения между господарями-фанариотами и автохтонными боярами Молдавии и Валахии в XVIII столетии представляют частный случай этого более общего явления.
Способность Российской империи использовать идеологические ресурсы также ограничивалась довольно жесткой иерархией приоритетов, определявших политику Санкт-Петербурга. При всей симпатии, которую русские цари могли испытывать по отношению к грекам, их готовность поддерживать претензии последних на господствующую роль в Юго-Восточной Европе никогда не перекрывала избранной ими политики в отношении других европейских держав. Другими словами, правители России подчиняли свои действия в княжествах принципам своей восточной политики и соображали последнюю со своей европейской стратегией. Эта иерархия приоритетов хорошо иллюстрируется карьерой Иоанна Каподистрии. Его политическая деятельность демонстрирует взаимосвязь политических процессов на общеевропейском, региональном и местном уровнях, а также способность локальных игроков сопротивляться имперским приоритетам и оказывать существенное влияние на результаты имперской политики.
«Греческий проект» Иоанна Каподистрии
Иоанн Каподистрия был представителем знатной греческой семьи с острова Корфу, являвшегося владением Венецианской республики[226]. Расположенный недалеко от балканского побережья, контролируемого Османской империей, Корфу был на протяжении всего раннемодерного периода пограничным островом, который может рассматриваться как часть более обширной пограничной зоны, включавшей также далматинское побережье и так называемую «тройную границу» между Османской империей, Габсбургской монархией и владениями Венеции[227]. Установление Наполеоном французской гегемонии в Северной Италии, положившее конец существованию Венецианской республики в 1797 году, не изменило в одночасье характера этой пограничной зоны, сложившегося в результате столетий прибрежной войны и торговли между конфессионально и культурно отличными группами населения. Наследие этой комплексной пограничной зоны проявилось в последующей борьбе между Османской империей, Россией, Францией и Великобританией, каждая из которых стремилась заполнить вакуум, образовавшийся в результате исчезновения Венеции как самостоятельной политической силы. Конфигурация «тройной границы» была в прямом смысле восстановлена с образованием Иллирийских провинций Французской империи в 1809–1813 годах, включивших в себя все бывшие владения Венеции в Восточной Адриатике[228], в то время как Корфу был последовательно занят французами, русскими и англичанами.
Изменения в этой пограничной зоне в конце XVIII – начале XIX столетия только усугубили традиционную лояльность местных элит по отношению ко всем сторонам, что иллюстрируется политической карьерой Иоанна Каподистрии. Его двойная приверженность России и делу греческого освобождения была источником оригинальности его политического видения и, в конечном счете, причиной постигшего его поражения. Совершеннолетие Каподистрии совпало с концом Венецианской республики и французской оккупацией Корфу. Получив медицинское, правовое и философское образование в Падуанском университете, он вернулся на родину и некоторое время работал врачом. После занятия Корфу русскими войсками в 1799 году молодой грек поступил на службу в русский военный госпиталь. Его способности и образование вскоре позволили ему перейти на государственную службу и стать секретарем Законодательного совета Республики Семи Островов, созданной под совместным российско-османским протекторатом в 1800 году. С 1803 по 1807 год Каподистрия фактически был министром иностранных дел нового государства[229]. Его пророссийская ориентация основывалась на убежденности в том, что освобождение Греции могло произойти лишь благодаря помощи России. Поэтому Каподистрия отказался от предложения перейти на французскую службу после заключения Тильзитского мира в 1807 году, положившего конец краткому существованию Республики Семи Островов. В 1808 году Каподистрия принял предложение российского канцлера Н. П. Румянцева и поступил на русскую дипломатическую службу в чине статского советника. Ко времени Венского конгресса Каподистрия стал российским статс-секретарем, ответственным за восточную политику России.