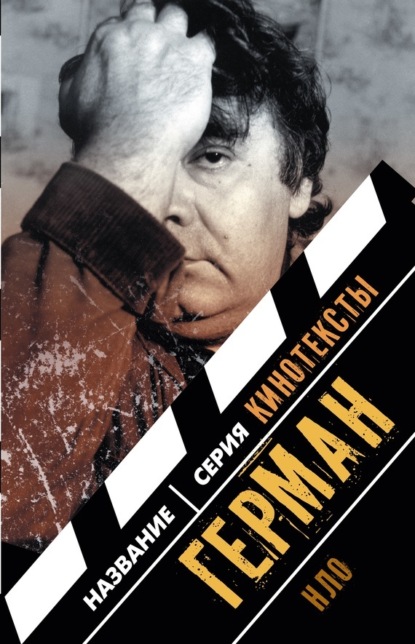Полная версия
Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране
В отличие от «Русского бунта» Прошкина, «Борис Годунов» Мирзоева снимался главным образом для постсоветского зрителя: при том, что властная фигура, изображенная в пушкинской драме, – это обобщенный «господин президент» и «эффективный менеджер», а сама проблема власти и народа, власти и совести универсальна, Мирзоев полагает, что только российский зритель, знакомый с творчеством Пушкина, может воспринять обертона и понять иронию пьесы. Режиссер подчеркивает, что его фильм – не артхаусный, не эзотерический, но, напротив, демократичный и предполагает самого широкого зрителя.
Не имея государственных дотаций, Мирзоев испытал множество проблем с финансированием своего проекта. Замысел фильма возник у режиссера еще в 1997 году, но осуществить его он смог только в 2011‐м. По его словам, фильм стал жертвой цензуры, а цензура в 1990–2000‐х заключалась именно в отказе от финансирования. В конце девяностых главный вопрос драмы – о легитимности власти – звучал слишком остро, а совпадение имен первого постсоветского президента и правителя в драме Пушкина представлялось слишком очевидным намеком. В двухтысячных же острее звучало уже имя (лже)Дмитрия.
В результате, когда фильм все-таки удалось снять, история его показа оказалась историей волеизъявления «народа»: аудитория сама определила себя, выбрав этот фильм. Не имея финансовой возможности запустить рекламную кампанию, Мирзоев показал «Бориса Годунова» на кинофестивале, где фильм был украден и выложен в интернет. Там он начал быстро распространяться, получил известность – и тогда уже вышел в прокат на большом экране. Вопреки опасениям режиссера, именно интернет-прокат контрафактной копии вызвал интерес широкого зрителя и оказался для фильма весьма успешной рекламной кампанией. И именно такой способ бытования фильма адекватен его главному сообщению: ситуация, в которой судьбы огромной страны определяет если не один человек, то небольшая группа рвущихся к власти людей, а народ, лишенный возможности участвовать в политической жизни, остается лишь наблюдателем, – такая ситуация абсурдна. Сама драма Пушкина свободна от тенденциозности («…никакого предрассудка любимой мысли. Свобода»[123]) – и в фильме Мирзоева именно наблюдатель получает субъектность, свободу выключить телевизор.
Режиссер настаивает на том, что, перенося события XVII века в современность, он не имел в виду конкретных политических аллюзий, но хотел сделать фильм о развращающей природе власти и постоянном возвращении России к одним и тем же схемам узурпации этой власти, в рамках которых народ является не субъектом, но лишь объектом политики. С целью показать «пласты нашего исторически наслоившегося менталитета»[124] он соединяет конец царствования Романовых с постсоветской эпохой, глядя на оба временных периода сквозь призму Смутного времени, созданную Пушкиным. Таким образом, современный правитель Борис приходит к власти в результате убийства царевича Алексея в Екатеринбурге. Советский период из картины изымается, «время схлопывается», как любит говорить Мирзоев, – и эта манипуляция ведет к ложной интерпретации истории. О ней писала Ирина Прохорова в своем эссе о демонизации 1990‐х с точки зрения 2000‐х: на пришедших к власти после распада Советского Союза парадоксально проецируется «историческая вина» за разрушение Российской империи в 1917‐м – и Ельцин оказывается новым Лениным, а не тем, кто пришел на смену последователям Ленина. К сожалению, приходится признать, что фильм Мирзоева вносит свой вклад в эту схему восприятия. Однако, как справедливо указывает Скидан, проблемы с легитимностью нынешней власти связаны с событиями не 1917‐го, а 1991 (и, хочется добавить, 1993) года.
Здесь мы сталкиваемся с важным противоречием. В интервью с режиссером, в критических статьях о «Борисе Годунове» часто возникает тема архаики и ее противопоставления модерности[125]. К архаике, с точки зрения режиссера, относится централизованная власть, сочетание власти государственной и церковной, рециркулирование одних и тех же схем передачи власти, одних и тех же исторических паттернов. При этом, по его мнению, «сползание в архаику» произошло и после революции, и в 1990‐е годы (можно предположить, что архаичны в его сознании жестокость нравов и преступный захват власти). Он выражает надежду на то, что настоящее время является переходным к модерну, то есть к движению общества в сторону демократии, к свободному волеизъявлению народа. При этом мирзоевское определение архаичного вполне применимо к его собственной концепции истории – ко взгляду на нее как на циклическое время, историю вечного возвращения. Идея схлопывания времени и акцент на неизменности исторических паттернов, представление о том, что разные времена российской истории – Смутное время, эпоха декабристов, наши дни – это, по сути, одно время, – игнорирует принципиальные исторические различия между этими периодами и подрывает актуальность фильма, воспроизводя самой его структурой те схемы, которые он критикует. Архаична циклическая архетипичность фильма, намеренное смешение разных эпох – при том, что сама демонстрация актуальности изображенного Пушкиным конфликта в наши дни появляется как раз из модерности. Ведь сам Мирзоев признает, что «якобы вневременная, абсолютная ценность классики решительно зависит от контекста» – и при этом размывает этот самый актуализирующий контекст. В условиях рециркуляции одних и тех же схем можно прийти только к бесплодному выводу о безнравственности любой власти, который, исключая осмысленное политическое действие, не дает никакой надежды на выход из сложившейся ситуации.
Здесь мы имеем дело с метапроблемой экранизаций, переносящих действие из прошлого в наши дни: означает ли это, что все они – только о вечном возвращении, о неизменности конфликтов? Нет, поскольку адаптация является сочетанием элементов знакомого и нового – не только попыткой увидеть архетипическое в современном, но и интерпретацией будто бы архетипического с точки зрения настоящего момента. Перенесение в наши дни актуализирует конфликт, дает классическому тексту новую жизнь, акцентирует как сходства с настоящим моментом, так и различия с ним – и одновременно с моментами предыдущих интерпретаций. Однако идея вечного возвращения, наличия в истории неизменных схем размывают актуальность, не воскрешая текст, но рискуя превратить его в вечно движущегося по кругу зомби.
Новые направления: «Дама пик» как метаадаптация
Новейшая адаптация пушкинского сюжета, «Дама пик» Павла Лунгина является метаадаптацией: она ориентируется не столько на повесть Пушкина, сколько на оперу Чайковского, в свою очередь адаптировавшую повесть, – со значительным изменением психологических мотивировок. Лунгина интересовал Герман как предшественник Алексея Ивановича, героя романа Достоевского «Игрок», для которого азартная игра приобрела экзистенциальный смысл. Иными словами, роман Достоевского является еще одной преломляющей призмой интерпретации. В центре фантасмагорического фильма, сочетающего сразу несколько видов искусства и жанров – литературу, оперу, кино, фильм-оперу, гангстерский триллер с элементами жанра нуар, – находится сам процесс адаптации. Вернувшись в родной город, оперная примадонна София Майер руководит постановкой оперы «Пиковая дама», в которой сама собирается сыграть главную роль. Постепенно поступки и отношения исполнителей все больше начинают совпадать с их ролями. Молодой певец Андрей, ухаживающий за племянницей Софии Лизой, одержим страстью к деньгам и желанием спеть партию Германа – сыграть его роль на сцене и в жизни. Оптикой, через которую Лунгин изучает современное общество, становится исчезающий зазор между реальностью и игрой, причем понятие игры нарочито раздвоено, оно включает в себя и искусство – игру на сцене, и азартную игру. Идентичность, таким образом, исследуется на метауровне: как отличить подлинное от поддельного, игру от жизни? И можно ли их различить, если сама игра (в обоих смыслах) становится жизнью, если наиболее настоящими герои фильма бывают, когда исполняют свои роли, а в азартной игре на кон ставится сама жизнь?
В разные постсоветские эпохи Лунгин наблюдает, как в современном ему обществе трансформируются классические литературные типажи. В «Деле о „Мертвых душах“» (2005) он показывал превращение молодого идеалиста Шиллера в афериста Чичикова – имея в виду современных начинающих капиталистов[126]. Герман в «Даме пик», по его словам, представляет типаж, характерный именно для нового времени: молодой человек, который не верит, что можно добиться успеха, просто профессионально занимаясь своим делом. Он стремится к победе над судьбой, стараясь обыграть ее в карты. Объектом критики оказывается в таком случае и общество, в котором нельзя подняться по социальной лестнице, обладая лишь талантом: Андрей, судя по началу его сценической карьеры, имеет все основания не верить в справедливую оценку своих способностей.
Приступая к съемкам «Дамы пик», Лунгин ориентировался на широкую, в том числе зарубежную аудиторию. Поскольку режим адаптации подразумевает у зрителя знакомство не столько с повестью Пушкина, сколько с оперой Чайковского – а само исполнение оперных арий составляет значительную часть фильма, – основания для того, чтобы целиться в зарубежного зрителя, у режиссера были. Первоначально Лунгин собирался задействовать зарубежных актеров мирового уровня: так, в частности, роль графини должна была сыграть Ума Турман, – но эти планы в результате не осуществились[127], а главным адресатом фильма стало все-таки российское общество.
И сюжет, и образная система лунгинской «Дамы пик» включают в себя множество симулякров в поисках своего референта, точнее даже симулякров, стремящихся стать референтами. И София Майер – Пиковая дама, и Андрей – исполнитель роли Германа – стараются воплотить в жизнь свои собственные интерпретации Пушкина и Чайковского. София Майер выступает как режиссер авангардной постановки оперы и вместе с тем оркеструет оперные события в реальной жизни. Ею, как и Андреем-Германом, руководят две страсти – пение и азартные игры. София окружена копиями, двойниками и подделками – и умножает их число, – так что уместным кажется поставить вопрос о соотношении копии и адаптации: ведь именно создание адаптаций является ее профессией.
Проиграв все свои богатства, София надевает поддельные драгоценности, и даже семейная реликвия, которую она дарит племяннице Лизе, исполняющей в опере роль Лизы, оказывается подделкой. София по всему миру возит с собой своих восковых двойников – манекены для сценических платьев, тени ее предыдущих ролей. Лизу София тоже рассматривает как собственного двойника, настаивая, чтобы та исполняла роль в платье, в котором когда-то сама она пела эту партию. Если графиня – в прошлом Лиза, можно предположить, что в будущем новая Лиза также станет Пиковой дамой. Но Лиза стремится вырваться из этого круга двойников: узнав о связи Андрея и Софии, она уничтожает копии графини – манекены и платья, – и это действие замещает расправу над самой соперницей.
В то время как Лиза пытается выйти из предписанной ей роли, Андрей, наоборот, старается свести дистанцию между собой и ролью к нулю: он должен не только получить роль в опере, но стать Германом в жизни – именно это должно позволить ему исполнить роль по-настоящему. Здесь, как в «Черном лебеде» Аронофски[128], роль подчиняет себе исполнителя. Более того, Андрей пытается превзойти самого Германа, стать Германом выигравшим. Он бросает вызов судьбе, пытается противопоставить свою волю детерминизму известного сюжета – переписать и пушкинскую повесть, и оперу Чайковского.
Парадоксальным образом его талант должно подтвердить не само исполнение, но везение в карточной игре. Последнее и окажется его победой над фатумом, доказательством того, что он действительно, на самом деле Герман. Он хочет воплотить литературу и оперу в жизнь, заставив искусство и жизнь соединиться в азартной игре, достигнув тем самым высшей полноты, – но не замечает, что в высшей степени здесь реализуется лишь симулякр.
События «Пиковой дамы», таким образом, происходят в фильме дважды: на сцене, во время премьеры оперы, – и раньше, когда Андрей играет в подпольном казино, ставя на тройку, семерку и туза вопреки тому, что третья выигрышная карта – пиковая дама – ему известна. На кон он ставит собственные жизнь и свободу, обещая стать рабом хозяина казино в случае проигрыша, которым игра и заканчивается. На сцене он тоже пытается превзойти Германа: по-настоящему убить графиню в ходе представления – а после этого покончить с собой. Однако ни то ни другое ему не удается. Потеряно оказывается то, что было в Андрее действительно подлинным, – голос. В начале фильма мы становимся свидетелями того, как этот голос проявляет вполне материальную силу: посетители подпольного казино, куда Андрей приходил зарабатывать деньги, заключали пари на то, что своим пением он разобьет электрическую лампочку. К потере голоса приводит попытка самоубийства, в этом смысле оказывающаяся успешной. В конце Андрей из страстного игрока превращается в инструмент поддержания азарта других, становится игрушкой судьбы в прямом смысле: его жизнь принадлежит хозяину казино, который выставляет своего раба против желающих сыграть в русскую рулетку.
В этой сложной констелляции умножающихся ролей и двойников деконструкции подвергается сам вопрос о взаимоотношениях оригинала и подобия. Подлинной ценностью здесь является талант – режиссерский и оперный, – талант к мимесису, способность воплощать чужое как свое, достигать полноты воплощения чужого замысла в собственном стремлении к обретению новых форм архетипического сюжета. Но стремление к полноте воплощения чужого оборачивается разрушенными жизнями. Про «Даму пик» нельзя сказать, что она балансирует на грани китча: китч уже включен в ее эстетическую систему, подразумевающую двойственность статуса оперы, являющейся в наши дни искусством одновременно и элитным, и массовым. «Дама пик» с ее чувственностью, преувеличенными страстями и изощренными декорациями демонстрирует новые тенденции в адаптациях, возникающие в 2010‐х: усложнение интертекстуальной призмы, гибридность жанров и видов искусств, высокую степень авторефлексии – адаптация является не только методом, но и темой фильма, – а также множественное кодирование и одновременную ориентацию на разные аудитории – любителей арт-хауса и массового зрителя, как зарубежного, так и отечественного.
Адаптации Гоголя
Материализация метафоры зрения и исследование пространственных моделей
Привлекательности Гоголя для деятелей кино во многом способствует система разработанных им литературных жанров: в самом общем виде они коррелируют с кинематографическими массовыми жанрами. В своих прозаических произведениях, особенно ранних, Гоголь заложил основу для будущих блокбастеров: в «Вие» – для фильма ужасов, в «Тарасе Бульбе»[129] – для вестерна с масштабными батальными сценами, а в «Мертвых душах» – для роуд-муви. Это ясно чувствовали не только русские, но и зарубежные деятели кино: фильм родоначальника итальянского хоррора Марио Бава «Маска демона» (1960) представляет собой адаптацию «Вия»[130], а по «Тарасу Бульбе» голливудский режиссер Ли Томпсон снял одноименный вестерн с Юлом Бриннером в главной роли (1962).
Но режиссер, создающий фильм на основе гоголевских произведений, сталкивается с парадоксом: их кинематографичность оказывается мнимой. Кажется, что сюжеты и образы Гоголя легко визуализируются, так и «просятся» на экран. Во многих сценах уже заложен взгляд со стороны – и это взгляд художника, внимательного к освещению и контрастам, это взгляд потенциального режиссера[131]. Исследователи многократно указывали на то, какое важное место в художественном мире Гоголя занимает визуальное, как часто возникают у него темы смотрения и видения, – а также изучали особую гоголевскую оптику[132].
Однако легкость экранного воплощения Гоголя обманчива. Фигуры речи – гиперболы, развернутые метафоры и сравнения – при всей их зримости часто рисуют сценки, дополнительные к общему действию, возникающие и рассеивающиеся по ходу повествования. Применительно к позднему творчеству писателя, в котором, по наблюдению Ю. В. Манна, фантастическое не имеет специального агента, но переходит в стиль[133], необходимость особого киноязыка адаптации особенно очевидна: здесь требуется некая разновидность поэтического кино, возможно даже анимация. Лотман считал, что сама природа гоголевской прозы противится пластическому воплощению, поскольку оно означает выбор и реализацию одного из путей произведения, тогда как особенность текстов Гоголя состоит в том, что в них множество путей сосуществует одновременно – и осуществляется самый невозможный из них[134]. Адаптируя Гоголя для экрана, режиссер неизбежно отсекает другие планы, маячащие в литературном тексте и развивающиеся параллельно тому, который кажется основным. Однако попытки использовать классика для разговора о насущных проблемах российской современности на киноязыке нередко приводят к тому, что эти вытесненные в процессе адаптации планы вдруг прорываются на поверхность, обнажая связь между глубокими внутренними конфликтами самих гоголевских произведений – и противоречиями современной жизни. Как мы увидим, результат идет иногда прямо вразрез с идеологией режиссерского замысла.
Экранизации пьес. 1990‐е: «Ревизор», 2000‐е: «Русская игра». Плуты старые и новые, российские и европейские
Рассматривая главные тенденции экранизаций 1990‐х, Ирина Каспэ отмечает наряду с «присвоением», «обыгрыванием» и «снижением» классики само тяготение режиссеров к гротескным произведениям – в частности, к Беккету и Кафке[135]. В этом смысле выделяется снятая Сергеем Газаровым в 1996 году киноверсия «Ревизора», в которой гоголевский абсурд доведен на экране до предела. Обнажая писательский прием, актеры изображают своих персонажей автоматами, куклами с преувеличенными и резкими жестами. Хлестаков в исполнении Евгения Миронова то неистово крутится и прыгает, то вдруг падает на кресло и замирает, как испорченная заводная игрушка, дожидаясь, пока другие снова приведут его в действие. Судья оперирует его руками, вкладывая в рукава и за пазуху деньги. Почтмейстер ему даже раскрывает пальцами глаза, демонстрируя крайнюю степень его «ненастоящести»[136]. Сцена утреннего кормления Хлестакова, когда ему в рот кладут закуску и наливают водку, а он, как болванчик, покачивает головой, отдаленно напоминает знаменитую сцену механического кормления из фильма Чарли Чаплина «Новые времена» (1936), только у Чаплина машина кормила живого человека[137], а здесь один механизм кормит другой. Пластика Миронова подчеркивает мерцающую роль Хлестакова, который является то марионеткой, то заводным механизмом, в свою очередь приводящим в движение остальных персонажей: оказавшись в центре интриги, он отражает и усиливает то, что жители города хотят в нем увидеть.
Элемент абсурда, связанного с безумием, у Газарова также присутствует. Бобчинский и Добчинский в начале фильма показаны как один персонаж с раздвоением личности: Петр Иванович постоянно обращается к пустому месту рядом с собой, ссорится с ним и требует, чтобы его не перебивали. Остальные чиновники подыгрывают ему, увещевая то его, то невидимого двойника, предлагая последнему стул[138]. В конце, однако, двойник материализуется, так что первоначальная интерпретация оказывается недостаточной, – что только усиливает общее ощущение зыбкости созданного в фильме мира.
Дополнительные оттенки смысла придает «Ревизору» Газарова кастинг. Большинство чиновников играют знаменитые советские актеры театра и кино еще советского времени: Никита Михалков – Городничего, Зиновий Гердт – смотрителя училищ Хлопова, Олег Янковский – судью Ляпкина-Тяпкина, Алексей Жарков – попечителя богоугодных заведений Землянику, а вот Евгений Миронов, исполнитель роли Хлестакова, стал известен лишь после своей роли в «Любви» Тодоровского (1992). Таким образом, в недиегетическом пространстве фильма «старый» советский мир вступает в конфликт с новым, возникшим из него же, транслируя ему свои страхи и надежды, – а новый мир охотно принимает навязанную роль и обманывает старый. Оба населены движущимися манекенами, оба гротескны и призрачны за одним исключением – Городничего – Михалкова, «обнаруживающего хоть какие-то черты саморефлексии», как замечает Анна Латон[139]. У него в фильме особое положение, по-видимому продиктованное в том числе и фигурой Михалкова, а не только гоголевским текстом, где именно Городничий разрушает иллюзию изоляции диегетического пространства пьесы от зрителя знаменитой фразой «Над кем смеетесь?». Газаров подчеркивает, что Городничий находится в особом пространстве между зрителем и остальными персонажами. Его фигура обрамляет действие: фильм начинается с его рассказа о сне, в котором фигурировали две зловещие крысы, – а завершается появлением этих крыс. Главный эффект достигнут в финале: после того как чиновники застыли в немой сцене, застигнутые известием о приезде настоящего ревизора, они начинают по очереди исчезать, оставляя на экране пустые места. Единственный, кто задерживается в кадре и заставляет сцену длиться, – это именно Городничий (точнее, именно Михалков).
В сценических постановках «Ревизора», которые исследует Ю. В. Манн, существовало две традиции исполнения Сквозника-Дмухановского, каждая из которых акцентировала разные стороны авторского замысла[140]. Одна, московская, шла от игры М. С. Щепкина, чей Городничий был грубым, вульгарным провинциалом, способным, однако, к неожиданным эмоциональным переходам и даже к трагизму в последнем акте. Другая, петербургская, традиция имела своим родоначальником И. И. Сосницкого, выстраивавшего образ чиновника более цивилизованного, более мягкого, но и более хищного. В. Н. Давыдов (актер Александринского театра с 1880 года), исходя из традиции Щепкина, изначально смягчает Городничего, делает его, по свидетельству критиков, «очаровательным» и «незлобивым», вызывающим скорее сочувствие, чем негодование персонажем. Но Михалков идет в своей интерпретации дальше. Соединяя опасную мягкость игры Сосницкого с резкими эмоциональными переходами Щепкина, он привносит в своего персонажа не только очарование, но и величие. Последний монолог, разоблачающий бессовестных писателей-сатириков, он произносит так страстно, с такой убедительной силой, что из объекта сатиры превращается в судью – и вместе со зрителем созерцает язвы старого и нового мира[141].
Снятая через одиннадцать лет «Русская игра» Павла Чухрая (2007) совсем иначе расставляет акценты, выводя на первый план противостояние русского и европейского. Это проявляется уже в том, как трансформировано название фильма по сравнению с исходным текстом.
Гоголевские «Игроки», считающиеся незаконченной пьесой, по структуре конфликта обратны более раннему «Ревизору»: в последнем приезжему роль плута подсказывают, практически навязывают городские чиновники, обманувшие в итоге самих себя. В «Игроках» же плута и шулера Ихарева, приехавшего в городок с намерением всех обмануть, самого оставляют в дураках другие шулеры – так что он поневоле оказывается единственным честным человеком[142]. И у Гоголя, и в предыдущих экранизациях[143] все действующие лица – русские. В «Русской игре» плут, собирающийся обыграть наивный русский народ (и сам остающийся в дураках), – итальянец Лукино. В начале фильма он прямо заявляет о своих намерениях, озвучивая стереотипное мнение, вкладываемое авторами в уста воображаемого – и также стереотипного – европейца: «Россия – страна, где земля богата, а люди доверчивы и простодушны: есть где поживиться приезжему шулеру». Представлять Европу был выбран итальянец, по-видимому, с оглядкой на популярную фигуру итальянского пикаро – Труффальдино, Фигаро, – предположительно опознаваемую аудиторией. По словам самого Чухрая, он ставил перед собой задачу изучить стереотипные представления с обеих сторон. Однако простой демонстрацией стереотипов дело не ограничивается, из фильма очевидна иерархия: в сравнении с исконно русским мошенничеством, профессиональные приемы иностранного шулера оказываются простодушными детскими шалостями. Способность мошенничать не только показана так, что аудитория невольно сочувствует ее обладателям, как это происходит, например, с читателями плутовского романа, – она предлагается в качестве повода для национальной гордости.
В то время как Лукино действует, исходя из имеющихся у него стереотипов русских («русский – широкий человек, водки много пьет, но добрый, немного доверчив»), пытаясь напоить их и увлечь цыганскими плясками, чтобы усыпить бдительность, соперники его постоянно находятся на шаг впереди: они об этих европейских стереотипах осведомлены – и подыгрывают им. В разговорах с Лукино русские шулеры охотно принимают на себя роль недостаточно искушенных обманщиков, признающих превосходство европейского мошенничества: «У них там в Европах любая прачка поумней нашей графини будет», – и пьют «за Европу, за учителя нашего – и за союз!» В то же время при возникновении малейшего конфликта они переворачивают этот стереотип, демонстрируя его негативную сторону: «Вот Европа – все норовит у русского на холке прокатиться!» Местные шулеры пытаются убедить итальянца в верности его представлений о простодушных и азартных русских («русский без риска – он и не русский вовсе», «болваны нонче на каждом шагу»), но события фильма демонстрируют, напротив, обилие искушенных мошенников на каждом шагу.