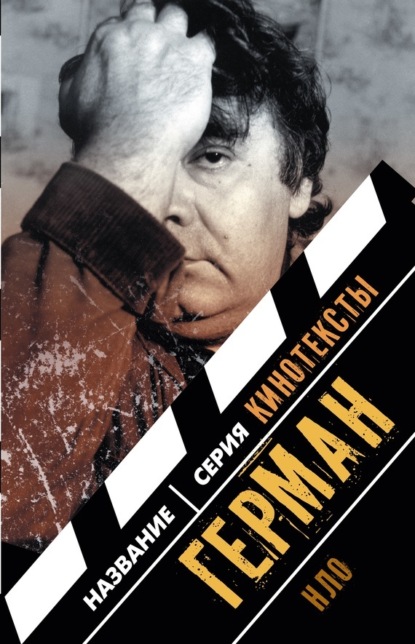Полная версия
Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране
По словам самого режиссера, в своем фильме он показывал разложение общества, одинаковое во времена Пугачева и Екатерины, и в наши времена: «С конца XVIII века ничего существенного с нами не произошло. Мы остались теми же, кем были тогда. Время Екатерины – время быстрых карьер и быстрых денег, время бездуховности и безнравственности власти. То же происходит и сейчас»[106]. Он компрометирует и «поэзию народного бунта», и образ государыни. В этом смысле «Русский бунт» не столько является охранительным по отношению к официальной власти, сколько привлекает внимание к хаосу истории и беззащитности человека, оказавшегося между ее жерновов. Если ему посчастливилось выжить, то не из‐за человечности, которую способен проявить правитель, не из-за его моральных принципов – сохранение чести не способствует выживанию, – но в результате случайного стечения обстоятельств или по прихоти правителя.
Фильм Прошкина дает апофатический ответ на вопрос о «правильной» для России власти, хотя и не исключает поддержки сильного авторитетного правителя и централизованной власти – при условии ее человечности. Начиная работать над «Историей Пугачева», Пушкин смотрел на события крестьянского восстания через призму кровавых бунтов 1831 года, которые произвели на него крайне тяжелое впечатление[107]. У Прошкина в 2000 году на деконструкцию идеалов советского прошлого – революция показана как кровавая, безнравственная и бесперспективная – также накладываются события недавнего прошлого: страх перед нестабильностью 1990‐х.
В своем анализе фильма Верницки ставит проблему отсутствия собственно пушкинского слоя времени в экранизации, которое не дает зрителю оснований сопоставить политическую ситуацию в пушкинское время и екатерининскую эпоху, а проецирует ее непосредственно на современность, для которой и время Екатерины, и время Пушкина равно являются прошлым. Однако по крайней мере намек на совмещение разных временных пластов у Прошкина присутствует: голос повествователя, в отличие, например, от экранизации Владимира Каплуновского (1959), – голос пожилого человека, создающий контраст с обликом и действиями молодого Гринева. Зритель, таким образом, подсознательно учитывает еще один временной пласт повествования: тот, из которого рассказана история. В фильме Каплуновского же «пушкинский» слой представлен иначе: отсылками к другим произведениям Пушкина. Рисунки и записи, которые делает Гринев в дневнике, очень похожи на рисунки в рукописях Пушкина, а «заветный вензель» П и Г, который Маша пишет на стекле, напоминает о влюбленной Татьяне. У Прошкина подобных аллюзий нет: можно предположить, что чучела из соломы, висящие на виселице в начале фильма – для обучения солдат в Белогорской крепости, – не только предвосхищают события, но и призваны напомнить рисунки Пушкина – повешенных декабристов, но это слишком шаткая гипотеза.
Вообще, сравнивая экранизацию Прошкина с предыдущими российскими фильмами по «Капитанской дочке», обнаруживаем удивительный парадокс: антиреволюционный постсоветский фильм Прошкина во многих планах оказался близок первой сохранившейся экранизации – ранней прореволюционной советской адаптации Юрия Тарича, снятой по сценарию Виктора Шкловского в 1928 году. Можно даже предположить, что, как и эссе Цветаевой, фильм по сценарию Шкловского стал одной из призм, через которые Прошкин интерпретирует пушкинские тексты.
Причина – в том, что Шкловский, как и Прошкин семьдесят лет спустя (пусть и по совсем другим причинам, и провоцируя другие ассоциации), ставил своей задачей, с одной стороны, сделать из «Капитанской дочки» широкое историческое полотно, для чего также использовал исторические документы, а с другой – скомпрометировать образ Екатерины[108]. Композиция «Русского бунта», который начинается с изображения императорского дворца и сомнительных придворных нравов – и время от времени к сценам во дворце возвращается, – наследует «Капитанской дочке» 1928 года. Оба режиссера разрабатывают тему мужского гарема Екатерины. По замыслу Шкловского, Екатерина решает помиловать Гринева, чтобы и его присоединить к числу своих фаворитов. В дальнейшем он, однако, смягчил скабрезность этой трактовки: Гриневу удается избежать милости императрицы, что спасает его от смерти из‐за ревности придворных. Привнесение эротических элементов в экранизацию «Капитанской дочки» не было новаторством Прошкина, как бы ни иронизировали над этим критики: по наблюдению Даулета Жанайдарова, добавление эротики в классическое произведение с целью модернизации материала – вполне в духе первого пореволюционного десятилетия[109].
Привлекательность и развернутость образа Швабрина и в какой-то степени укрупнение фигуры Савельича на фоне малозначительных, бледных Маши и Гринева также дополняют это сходство[110]. Все эти трансформации героев были принципиальными для Шкловского, который по идеологическим соображениям изображал Гринева и Машу как классовых врагов, Швабрина – как сознательного участника народного восстания, а Савельича – как представителя народных масс с пробудившимся самосознанием. В фильме Прошкина изменения героев – пусть и далеко не столь радикальные – стали скорее результатом кастинга, – хотя вполне возможно, что без влияния фильма Шкловского – Тарича не обошлось.
Революционер-Швабрин у Шкловского – инженер и поэт, он пытается читать капитанской дочке сочинения просветителей, от которых она с досадой отмахивается. Сценарий постоянно подчеркивает контраст между недалекостью и малодушием Петруши Гринева, с одной стороны, и смелостью и благородством Швабрина – с другой; первый – персонаж фарса, второй – герой романтической революционной драмы. Пока один спит на лавке пьяный, другой спасает Машу от изменивших Пугачеву казацких старшин; Гринев танцует менуэт у тела погибшего Савельича, чтобы доказать императорским офицерам свое дворянское происхождение и избежать немедленной казни, а Швабрин отдает жизнь, пытаясь спасти родителей Гринева. При этом ключевые элементы фабулы Шкловский оставляет без изменений.
Так далеко Прошкин, конечно, не заходит, однако Швабрин у него превращается в разочарованного скептического интеллектуала – фигуру, как полагает Матизен, печоринского плана (игравший Швабрина Сергей Маковецкий даже получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр» в 2000 году). Симметрию – основу композиции пушкинского романа – Прошкин проецирует на фигуры Гринева и Швабрина с тем, чтобы сопоставить их. Во многих сценах герои буквально расположены в кадре симметрично: когда оба они командуют солдатами, разговаривают с Машей и, наконец, когда оба оказываются бок о бок у соседних виселиц – и демонический Швабрин от такого соседства не проигрывает.
Сходство между экранизациями Прошкина и Тарича – Шкловского проявляется даже в символизме отдельных сцен, хотя и в совершенно разных масштабах. Так, эпизод с осетрами на льду, которым стрельцы рассекают брюхо, замещающий – и предвещающий – другие сцены насилия, имеет параллель у Шкловского: Пугачев, отдающий приказание о повешении защитников, отрывает голову рыбе, которую держит в руках.
Конечно, каждая экранизация является слепком своего времени и, по определению Ханса-Роберта Яусса, свидетельством интерпретации классического текста, характерной именно для данного периода. Но интересно заметить, что фильмы, созданные в разных социоисторических условиях под влиянием различных факторов, обнаруживают иногда существенное сходство, которое не должно, впрочем, вводить исследователя в заблуждение относительно порождающих такое сходство причин.
Также полезно отметить, что Шкловский, как многие современные режиссеры, настаивал на том, что в своей интерпретации он, в сущности, близок к Пушкину – а если не к Пушкину, то к исторической правде. В работе над сценарием он опирался на ранние версии «Капитанской дочки», где главным героем Пушкина был дворянин Шванвич, перешедший на сторону Пугачева (из этого замысла позднее появились фигуры Гринева и Швабрина). Сравнивая текст «Капитанской дочки» с историческими документами, он подчеркивал, что Пушкин сам редактировал факты восстания, во многом по цензурным соображениям: в частности, он «измельчал события» – уменьшил масштаб Белогорской крепости и ее защищенность, умаляя тем самым важность ее взятия бунтовщиками. Сам же Шкловский пытался восстановить правду, избавляясь от «внеклассовых» элементов, к которым он относил пушкинские заимствования из европейской литературы. «Мы относимся к Пушкину как техник к технику, – пишет Шкловский, – Он сам изменял исторический материал, „Капитанская дочка“ – удачный памфлет. И мы изменяем его – для нашего класса, собственно, возвращаясь к истории»[111]. Как мы видим, апелляция к верности тексту и истории может завести интерпретатора очень далеко.
Заменив катарсис хеппи-эндом, принеся идеализированного Пугачева в жертву «историческому»,[112] редуцировав этическое измерение и подчеркнув масштаб событий, Прошкин помещает «Русский бунт» с его живописной жестокостью и яркой чернухой в один ряд с фильмами 1990‐х, то есть историями о времени беспредела, и в другой парадигме – в один ряд с крупномасштабными российскими фильмами о загадке русской души, такими как «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова[113]. При этом в российском культурном пространстве он в первую очередь все же функционирует как адаптация Пушкина.
Фильм ориентирован, с одной стороны, на российских зрителей, которых он призван сплачивать апелляциями к общей национальной истории и к главному народному поэту, заданными уже в эпиграфе, а с другой – учитывает и внешний, западный, зрительский взгляд. Этот второй, экзотизирующий, взгляд извне «встроен», как замечает Стефани Сандлер, в адаптацию[114]: западному зрителю предъявлены темные века трагической русской истории, времена, в которые кровавые зверства власти уравновешиваются живописной дикостью бунтовщиков. Казаки едят икру из рассеченного брюха еще живого осетра и пляшут в хороводе вместе с Пугачевым – а тот в моменты исступления режет себе руку, забрызгивая кровью танцующих и усиливая тем самым их неистовство. По свидетельству Петра Зайченко, исполнявшего роль пугачевского соратника Дениса Пьянова, западная аудитория учитывалась в процессе производства фильма[115]. Последнее обстоятельство диктовалось, в частности, сугубо экономическими соображениями: как напоминает Сандлер, в 1990‐е годы один показ по европейскому телевидению приносил больше доходов, чем год проката на российском рынке. Пушкин, таким образом, оказывается узнаваемым брендом одновременно и на внутреннем рынке, где он работает как средство сплочения нации, – и на внешнем. Важно, что последнее обстоятельство, в свою очередь, может являться предметом национальной гордости.
Обстоятельства создания фильма очень характерны для своего времени с его специфическими экономическими условиями и противоречивыми общественно-политическими устремлениями. Результат также не мог не получиться противоречивым. По свидетельству Андрея Плахова, начатый медиахолдингом Гусинского «НТВ-Профит» в 1997 году как крупномасштабный проект, после финансового кризиса 1998 года фильм оказался в зависимости от государственных дотаций, которые поступали нерегулярно, – почему он и не был закончен к юбилею. Тот факт, что прокатная стоимость – и, соответственно, цены на билеты – оказались слишком высокими, так что не все регионы смогли его купить, вступал в очевидное противоречие с юбилейной задачей сплочения нации вокруг ее главного поэта. Этой задаче не отвечало и декларируемое Прошкиным намерение провести параллели между разложением общества в екатерининское время и в России конца 1990‐х. Однако критическое послание режиссера в значительной степени потерялось за квазирусскими кинематографическими штампами, заметно ориентированными на западного потребителя, и за «причудливым переплетением государственно-патриотической ностальгии (пароль: «Россия, которую мы потеряли») с буйством народной, балаганно-лубочной стихии»[116].
Опрос критиков, киноведов и деятелей кино, опубликованный на сайте Film.ru в октябре 2000 года[117], исходит из предположения, что с пушкинской экранизацией – историческим блокбастером – можно связывать надежды на возрождение российского кинематографа. Саму попытку снять такой масштабный фильм в условиях отсутствия финансирования и технических возможностей американских киностудий, – и даже «прежней армии… для военных массовок», – многие критики рассматривали как подвиг. Однако Абдурахман Мамилов справедливо замечает, что отдельные гиганты еще не означают общего подъема киноиндустрии, а Даниил Дондурей указывает, что исторические фильмы могут способствовать возрождению кинематографа, однако для этого нужно, чтобы автор «не потерялся в своей исторической действительности», – в то время как у «Русского бунта» четкой политической идеи нет. Хотя в целом респонденты, принадлежащие к разным частям политического спектра, считают, что за фильм не стыдно ни перед отечественным, ни перед западным зрителем, общий тон их комментариев – довольно сдержанный. Относительный неуспех фильма Владимир Дмитриев и Мирон Черненко связывают с разрушением мифа о Пугачеве, который традиционно воспринимался как часть пушкинского мифа, – в то время как для национального возрождения кинематографа и общества вообще требовалось создание мифа нового. Проблема состоит не только в отходе от привычного образа Пугачева, сформированного пушкинским текстом «Капитанской дочки» и его советскими интерпретациями, но и в общем скептическом пафосе фильма, критически и иронически изображающего обе стороны – и народ, и государственную власть. Этот скепсис, будучи спроецирован на современность, противоречил статусу юбилейного блокбастера по хрестоматийному произведению главного национального писателя и не вписывался в позитивную программу создания нового мифа. Для одних зрителей – понимающих патриотизм как прославление отечественной истории и культуры – «Русский бунт» оказался слишком критическим. Для других же – не видящих противоречия между патриотизмом и осознанием проблем отечества – слишком лубочным.
«Борис Годунов»: проблема «вечного возвращения»
Пугачев в «Капитанской дочке», объясняя свое безумное, с точки зрения Гринева, стремление к власти, напоминает: «Гришка Отрепьев поцарствовал же над Москвою». Эта реплика отсылает читателя к сюжету, разработанному Пушкиным значительно раньше – в драме «Борис Годунов». Именно к этому произведению обращается в своем фильме Владимир Мирзоев.
Главная опасность, которую Пушкин с его универсальностью представляет для интерпретаторов, – соблазн мыслить архетипически, оперировать слишком широкими абстрактными категориями, заслоняющими особенности настоящего момента, и в конечном итоге остаться на уровне общих мест или даже впасть в ретроградство. Этой опасности, по мнению Александра Скидана, сформулированному в его сжатом и точном сравнительном анализе «Бориса Годунова» и «Кориолана» Рэйфа Файнса (2011)[118], не избежала и постановка Владимира Мирзоева. Я это мнение разделяю – несмотря на то, что по своей значимости в истории кино этот фильм – самая важная из постсоветских экранизаций Пушкина. Драматическое внутреннее противоречие фильма Мирзоева состоит в том, что он на концептуальном и образном уровнях воспроизводит именно то, против чего выступает на уровне своего непосредственного идеологического послания, то есть утверждает неизменность механизмов и схем, задействованных в российской истории, «базовых категорий, свойственных русской ментальности»[119].
Мирзоев почти не меняет пушкинского текста, вводя лишь несколько новых реплик. Оглушительный эффект, произведенный его фильмом, состоит именно в том, что он не заявляет себя как адаптация. Режиссер прямо заявляет в титрах – «„Борис Годунов“, авторства Пушкина» – и прочитывает драму максимально прямо, но глазами современного человека, опрокидывая ее в современную реальность. По словам режиссера, его самого потрясло, насколько бесшовно произведение Пушкина ложится на современный материал.
Мирзоев отказывается от традиционного исторического антуража, делая декорации минималистичными, вневременными – и при этом вводя в фильм современные атрибуты. В новое время бояре носят деловые костюмы, ездят на лимузинах, Пимен записывает свое предание на компьютере, а глава государства обращается к народу с экрана телевизора. Демонстрируя природу новой власти, фильм показывает сращение государства c бизнес-элитами, а также участие церкви в вопросах управления. В качестве символа государственной власти Мирзоев демонстрирует не столько башни Кремля, которые мы видим через окно автомобиля и кабинетов, сколько небоскребы Москва-Сити, на фоне которых происходит диалог Воротынского и Шуйского.
Окруженный рвущейся к власти элитой, Годунов у Мирзоева – далеко не самый отрицательный персонаж. Как подчеркивает Григорий Дашевский, решение режиссера превратить царевича не в страшного призрака, а в светлого (за исключением последних сцен. – Л. Ф.), сопровождающего Бориса и в семейном кругу, и на заседаниях думского совета, призвано напомнить нам: муки совести Бориса свидетельствуют, по крайней мере, о том, что совесть у него есть[120]. Более того, возможно, совесть – лучшее, что в нем есть и что выгодно отличает его от придворных. Постепенное погружение Годунова в безумие показано переключением между сценами, где зритель видит происходящее глазами Бориса, укачивающего царевича, играющего с ним, – и сценами, снятыми с точки зрения придворных, для которых речи и действия царя необъяснимы; Мирзоев таким образом визуализирует мотивы поведения Годунова, представляет его совесть как нечто вполне реальное и конкретное.
Григорий Отрепьев оказывается лицом к лицу с собственной совестью в сцене боя на Литовской границе. Это одна из немногих нетеатральных сцен фильма: действие ее разворачивается не в интерьере, а в открытом пространстве. Когда войско Лжедмитрия одерживает победу над русским и все русские уже мертвы, иностранный солдат продолжает в конвульсиях безумия строчить из автомата. Именно тогда Лжедмитрий в ужасе останавливает его: «Довольно, щадите русскую кровь». У Пушкина это один из двух моментов, когда в авторской ремарке Отрепьев назван не Самозванцем и Лжедмитрием – но Царевичем. У Мирзоева, однако, в этой сцене нет места величию героя – остается только потрясение перед содеянным.
В своем фильме Мирзоев акцентирует тему двойников, на которой построена пушкинская драма: как и Борис, Григорий Отрепьев стремится к власти и готов заплатить за нее чужой жизнью. Но если цель Годунова – просвещенное разумное правление, и он убеждает себя в том, что этой целью преступление оправдано, то Лжедмитрий зачарован властью как таковой и оправдывает себя тем, что и нынешний правитель преступен. Режиссер с самого начала соединяет двух своих героев во сне: Отрепьеву снится не то, о чем он рассказывает потом Пимену, но сон, в котором он блуждает с факелом по подземелью и видит Годунова, смывающего кровь с царевича, а позже – мертвое тело с лицом, прикрытым маской; он срывает маску, но в этот момент в ужасе просыпается, и мы видим лицо Григория по эту сторону сна.
Двойничество Годунова и Отрепьева проявляется и в композиционной симметрии фильма, которую режиссер подчеркивает замедленной съемкой: открывается фильм сценой убийства царевича Димитрия, а заканчивается – убийством детей Годунова. В обоих преступлениях явлено предательство: убийство царевича организовано с помощью его няньки, а убийцы детей Годунова, будто бы пришедшие приводить их к присяге, сначала целуют их.
Мирзоев напоминает зрителю о том, что существует еще один двойник Годунова, имевший возможность бороться за власть, но сделавший другой этический выбор, – Пимен. Пушкинский Пимен, приближенный к Ивану Грозному, познавший страсти и соблазны, находит покой в уединении монастыря. У Мирзоева он занимает высокое положение в церковной иерархии. Кроме того, он не только пишет собственную историю, но и причастен к книгоизданию: беседа Пимена с Отрепьевым происходит на фоне только что отпечатанного тиража неких брошюр. Пимен, таким образом, оказывает влияние на современную жизнь и не будучи непосредственно причастным к государственной власти. По словам Мирзоева, выбор Михаила Козакова на эту роль был для него особенно важен: актер должен был напомнить о моральной позиции тех представителей творческой интеллигенции из поколения шестидесятников, кому удалось преодолеть соблазн близости к власти[121]. Богатство обертонов фильма связано, в частности, с широким кругом ассоциаций, возникающих благодаря исполнителям ролей. И Козаков (Пимен), для которого эта работа стала последней, и Парфенов (думский дьяк) – оба отчасти играют и себя самих.
Фильм Мирзоева мастерски визуализирует фигуры речи – и те, что присутствуют в пушкинском тексте, и те, что возникают у современного читателя/зрителя в связи с ним: так, в начале фильма, рассуждая о способах захвата власти, Шуйский и Воротынский буквально поднимаются наверх по ступеням внушительной каменной – но и бюрократической – лестницы. Недаром в одном из интервью по поводу фильма Мирзоев использует в отношении элит именно это выражение: «подниматься по бюрократической лестнице». Спасаясь от преследования при переходе границы, Отрепьев в прямом смысле «в воду канул» – бросился в море. А в сцене у фонтана, которая в современной интерпретации оказывается сценой у бассейна, Лжедмитрий – Григорий буквально разоблачается перед Мариной Мнишек, признаваясь, что он – беглый монах, и одновременно раздеваясь. И, конечно, высшей точки этот прием достигает в визуализации безмолвия народа.
Сравнивая литературные приемы, характерные для пушкинских текстов с приемами современного ему театра, исследователи, в частности С. М. Бонди, отмечали, что, в отличие от героев классицистической драмы, герои Пушкина не объясняют себя зрителям: их речь имеет обоснование – мы слышим либо диалог между персонажами, либо экстериоризированный внутренний монолог. Мирзоев дополнительно усиливает это реалистическое обоснование речи: она часто звучит здесь с экрана или обращена к экрану, на котором демонстрируется трансляция или запись, – или даже театральное действие. Таким образом, даже монологи героев оказываются обращенными к тому или иному собеседнику: Григорий Отрепьев посылает проклятия Борису, которого видит на экране (здесь важно, что фигура властителя замещается его медиапроекцией, встраивающейся в ожидания и страсти героев). Борис разговаривает с безутешной Ксенией о смерти ее мужа во время просмотра видеозаписи счастливых моментов их семейной жизни. Этот активный экран, постоянно присутствующий в кадре, компенсирует минималистичность декораций.
Режиссерской находкой стала и роль медиа в трансляции государственных решений народу: решения Думы и исход событий думский дьяк в исполнении Парфенова сообщает аудитории по телевизору. С одной стороны, это демонстрирует, что власти рассматривают народ как объект приложения воли и обратная связь их с управляемыми гораздо слабее, чем у Пушкина, поскольку опосредована экраном. С другой стороны, Мирзоев обращает наше внимание на то, что реакции зрителей индивидуальны, – вслед за Пушкиным подчеркивая тем самым их субъектность. Таким образом он обращается и к аудитории собственного фильма, приглашая ее соотнестись с диегетическими зрителями. Как отметил Скидан, важнейший прием режиссера – отказ от унифицирующего, пустого представления о народе, решение разделить его на разные социальные группы. Так, в фильме изображено рабочее семейство, которое сопровождает просмотр новостей ироническими, порой циничными комментариями за выпивкой и закуской. Эти зрители явно, в общем, не обманываются ни по поводу сути происходящего, ни в отношении того, как власть относится к ним самим, – но при всем цинизме также искреннее сочувствуют страданиям детей. Другая группа зрителей – семья интеллигентов: кто-то смотрит новости со смесью возмущения и отвращения, кто-то предпочитает игнорировать, укрывшись пледом. В конечном счете именно зрители становятся судьями происходящего. Знаменитая заключительная ремарка «Бориса Годунова» у Мирзоева великолепно реализована действием: рабочая семья издевательски приветствует нового правителя, а семья интеллигентов выключает телевизор; протестующее безмолвие народа превращается в отказ быть объектом манипуляции. Здесь имеет место как бы обратный перформатив: у Пушкина поступком является отсутствие действия – отказ славословить детоубийцу, и этот смысл выражен в авторской ремарке. У Мирзоева протестное отсутствие действия возвращается к поступку – выключить телевизор. Безмолвие народа замещается безмолвием погасшего экрана – пусть и в отдельно взятой квартире.
В «Борисе Годунове» вообще усилен метаэлемент: телепередача в фильме, документальный фильм в фильме, спектакль в фильме – все это, с одной стороны, создает дополнительную мотивировку для слов героев, а с другой – деавтоматизирует процесс смотрения, напоминает зрителю об условности происходящего. Особенно это очевидно в сцене разгрома Лжедмитрия, которая преподносится как спектакль, разыгрываемый специально для Бориса и его свиты[122]. Постоянным напоминанием об условности, театральности происходящего служит и страшный кукольный Петрушка, который постоянно появляется в кадре. Внося в происходящее оттенок балаганной культуры, Петрушка связан с темой нечистой совести и детоубийства.